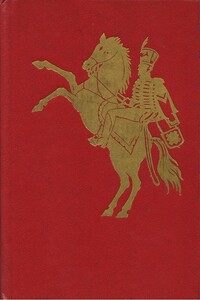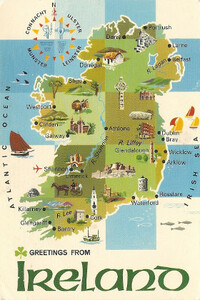Дороги Фландрии | страница 50
«И вот тогда-то и раздалась пулеметная очередь», сказал он (стоя перед ней, а она продолжала рассматривать его с каким-то скучающим любопытством, терпеливо, вежливо, а временами даже (нет не страх, но как бы тайное вызывающее и настороженное недоверие, какое неуловимо превращает вдруг равнодушные глаза кошки в два острых буравчика) нечто ускользающее, пронзительное, грозное вспыхивало в ее взоре и тут же гасло, и это ее невозмутимо-правильное лицо, эта безмятежная, великолепная и пустая маска, «Как у статуи, подумал он. Но возможно она и есть статуя, и не нужно ничего просить у нее ведь не просят же ничего другого у мрамора, камня или бронзы: лишь одного — смотреть на нее, трогать, если она только разрешит смотреть и трогать!», но он даже не пошевелился, думая: «Но ведь плакала же она. Он сам говорил что плакала…»), и тут ему почудилось будто оп видит их вдвоем, ее и Иглезиа, среди топота множества пог под несмолкаемый хруст гравия усеянного или вернее оскверненного невыигравшими билетами, и крохотные обезьяньи ручки Иглезиа рвущие на клочки теперь уже не имеющие никакой цены маленькие листочки бумаги, оба стоят выпрямившись во весь рост, застывшие, глядя друг другу в глаза: он со своим лицом цвета дубленой кожи, обалдевший, испуганный и грустный, в белых своих рейтузах, в кукольных сапожках а между отворотами заношенного пиджака виден треугольник розового и блестящего шелкового камзола, и она теперь уже не выдуманная (как говаривал Блюм — или вернее сфабрикованная в течение долгих месяцев войны, плена, вынужденного воздержания, начиная с краткого и единственного ее видения в день скачек, рассказов Сабины или обрывков фраз (в свою очередь воспроизводящих обрывки действительности), признаний или вернее почти невнятного мычания вырванного у Иглезиа терпением и хитростью, или начиная просто с нуля: с гравюры вообще никогда и не существовавшей, с портрета написанного полтораста лет назад…), но такая какой он мог видеть ее сейчас въяве, по-настоящему, стоявшую перед ним, раз он мог (раз он собирался) ее тронуть, а сам думал: «Сейчас трону. Пусть она ударит, выставит прочь из дома, а я все равно трону…», а она продолжала по-прежнему разглядывать его словно бы смотрела сквозь стекло, словно бы находилась по ту сторону прозрачной, но достаточно прочной перегородки, через которую так же невозможно было пройти как через стеклянную хотя обе были одинаково невидимы и за которой, все время его визита, она держалась как бы в укрытии или вернее вне пределов досягаемости и только на долю ее губам (губам, а не ей самой, — то есть тому острому или вернее заостренному, хрупкому и грозному — возможно даже ей самой неведомому — что двигалось с немыслимой быстротой, вспышками зажигало равнодушный и безмятежный взгляд) достался труд возвести еще один как бы предохранительный барьер потоком равнодушных слов, равнодушных вопросов (например: «Значит вы были… я имею в виду: служили в одном и том же эскадроне который…», не договаривая фраз, не упоминая (то ли из-за стеснения, из стыдливости — или просто от лености) имени (или двух имен) которое он сам не мог решиться написать в письме, содержавшем только упоминание номера полка и эскадрона, как будто и его тоже сковывал этот стыд, эта невозможность), и вдруг он услыхал ее смех, ее слова: «Но мы с вами кажется в каком-то родстве, вернее в свойстве, разве нет?..», произнесенные шесть лет спустя и почти в тех же самых выражениях что произнес тогда он (де Рейшак) ранним холодным зимним утром а за его спиной мелькали неясные рыжеватые пятки это вели с водопоя лошадей чтобы они могли напиться пришлось разбить в колодах корочку льда, а сейчас было лето, — не первое а второе после того как все кончилось, другими словами затянулось, зарубцевалось, или вернее (не зарубцевалось, ибо прошлое не оставило после себя ровно никаких внешних следов) приладилось, склеилось, и до того ладно что нельзя было обнаружить даже крохотной трещинки, так водяная гладь смыкается над брошенным в нее камнем, всего на миг разбился, раздробился отражавшийся в ней пейзаж, рассыпался на множество бессвязных осколков, на множество разрозненных кусочков неба и деревьев (то есть уже не неба, не деревьев, а перебаламученной лужи синевы, зелени и черноты), и вот уже восстанавливается вновь, синева, зелень и чернота перегруппировываются, коагулируются если так можно выразиться, упорядочиваются, еще чуть колышутся словно опасная змея, потом вастывают на месте, и тогда уже ничто больше не нарушает эту лакированную, вероломную, безмятежную и таинственную поверхность где упорядочивается мирное изобилие веток, небес, мирных и медлительных облаков, ничто уже теперь не тревожит эту полированную и непроницаемую поверхность, он (Жорж) думал: «Значит можно наверняка вновь в это поверить, выстраивать в определенном порядке, располагать как положено одну за другой ничего не значащие, звучные, приличествующие случаю и бесконечно успокаивающие фразы, такие же гладкие, такие же блестящие, такие же ледяные и такие же нестойкие как зеркальная водная гладь прикрывающая, стыдливо прячущая…»