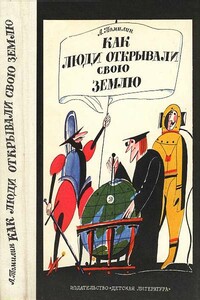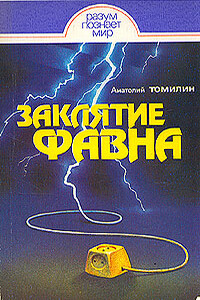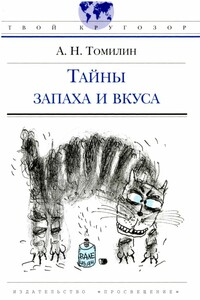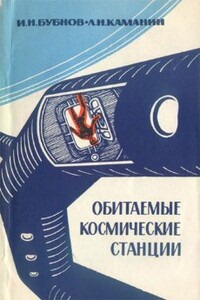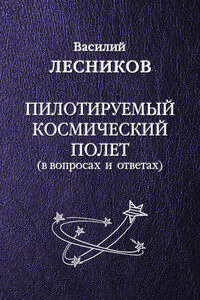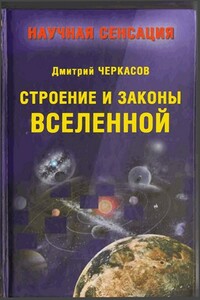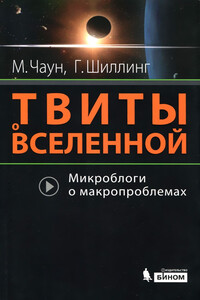Занимательно о космогонии | страница 61
Идея С. Всехсвятского о роли взрывных процессов в качестве механизма образования первичного допланетного облака и малых тел солнечной системы интересна. Но дальнейшее развитие планет у него в основном повторяет уже апробированные пути эволюции и потому несет на себе плюс к собственным недостаткам еще и груз недостатков прошлых гипотез.
На этом, пожалуй, можно бы ограничиться перечислением гипотез планетной космогонии. И не потому, что «рог творческого изобилия» иссяк. Нет, гипотез еще много. Но часть из них отличается от уже известных либо незначительными деталями, либо требует для понимания этих различий привлечения математического аппарата.
Время строить и время разрушать…
Много гипотез построено классической космогонией. Объединяет их в общем единый признак — дедуктивность.
Древние называли дедукцией выведение следствий из заданных заранее посылок. Конечно, выведение в полном соответствии с законами логики. Поэтому с помощью дедукции, двигаясь от общего к частному, хорошо проверять гипотезы, рассматривать содержание и сущность наблюдаемых явлений. Однако без помощи логического способа рассуждений от частного к общему, который именуется индукцией, чистая дедукция никогда не обеспечивает всестороннего познания объективной действительности. Это отмечали еще классики марксизма-ленинизма. В «Диалектике природы» Ф. Энгельс писал: «Индукция и дедукция связаны между собою столь же необходимым образом, как синтез и анализ». Ибо в конечном счете «любой дедуктивный вывод зависит от наблюдения, эксперимента и индукции».
Если мы оглянемся на путь, пройденный планетной космогонией, он вкратце был намечен в предыдущих разделах нашей книги, то легко заметим, что после крушения гипотезы Д. Джинса эта отрасль науки оказалась в состоянии глубочайшего кризиса. Причем решающую роль в создании такого положения сыграли новые факты, добытые наблюдениями. Сама основа, лежащая в фундаменте всех существовавших гипотез, пришла в противоречие с фактами. И чтобы вывести науку из состояния кризиса, ученым пришлось пересматривать основу, заложенную в саму постановку космогонических задач, искать новые методы их решения.
Раньше никто не покушался на предвзятое представление о первоначальном состоянии вещества любой системы в виде разреженной туманности. Это казалось само собой разумеющимся, хотя и не подтверждалось никакими существенными данными наблюдений. И это априорное начало определяло и дальнейший спекулятивный метод дедуктивных построений. Впрочем, был он вполне оправдан. Наблюдения с поверхности Земли при всем старании астрономов не могли дать достаточно астрофизических данных, опираясь на которые можно было бы прийти к индуктивному методу построения гипотез. Луна была далека. Меркурий плохо наблюдался из-за своей близости к Солнцу. Венера вечно скрывалась под чадрой из непроницаемых туч неизвестного происхождения. Мифы о Марсе заполнили многочисленные прорехи в знании, создав некую квазиправдоподобную картинку. Достаточно вспомнить, сколько проектов «связи с марсианами» было представлено. Или вспомнить серьезные работы астроботаников, отождествлявших спектры марсианских морей и каналов со спектрами земной растительности. О Юпитере и Сатурне спорили. Об остальных планетах просто не задумывались.