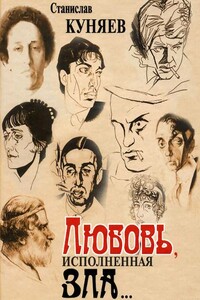Жрецы и жертвы Холокоста. Кровавые язвы мировой истории | страница 72
VII. От Розенберга до Валленберга
На деле существуют только два национализма: немецкий и еврейский.
Томас Манн
В поистине эпохальном романе Томаса Манна «Доктор Фаустус» есть одна сцена, всегда привлекавшая моё внимание. В маленьком городке — в сердце Германии — встречаются два человека, а если точнее, то два символа: гениальный и полубезумный немец — композитор Адриан Леверкюн и парижский импресарио, в прошлом бедный польский еврей Саул Фительберг. Действие происходит на рубеже 20—30-х годов. Импресарио уговаривает композитора совершить гастроли по Франции, соблазняет Парижем, но наталкивается на каменное молчание Леверкюна, в котором угадывается одно его желание — поскорее избавиться от назойливого собеседника и додумать, дочувствовать, довершить нечто медленное, глубокое, тяжёлое, что никак ещё не может вылиться у него на бумагу нотами, в которых, как он подозревает, может быть, будет выражена разгадка тёмной немецкой сущности. Еврей Фительберг — не дурак. Он сразу понял, что ни в какую Францию этот угрюмый немец не поедет, и после нескольких жеманных и остроумных попыток разговорить Леверкюна гражданин Франции, уже уходя, почти стоя в дверях, произносит замечательный монолог:
«Можем ли мы, евреи — народ пророков и первосвященников, не ощущать притягательной силы немецкого духа? Как родственны между собой судьбы немецкого и еврейского народов (…) Сейчас любят говорить об эпохе национализма. Но на деле существуют только два национализма: немецкий и еврейский; все другие — детская игра. К примеру, исконно французский дух Анатоля Франса просто светское жеманство по сравнению с немецким одиночеством и еврейским высокомерием избранности» (Собр. соч., т. 5, стр. 528. М., 1960 г.) В ответ на возражение о том, что это суждение принадлежит герою повествования, а не автору, я приведу суждение о немецком народе из письма Томаса Манна, написанного летом 1934 года Эрнсту Бертраму:
«Несчастный, несчастный народ! Я давно уже прошу мировой дух освободить его от политики, распустить его и рассеять по новому миру, подобно евреям, с которыми этот народ связан таким сходным трагизмом».
Крайне любопытна также мысль Томаса Манна, высказанная в письме Оскару Шмитту (январь 1948 г.), т. е. уже после разгрома ненавистного ему гитлеровского III-его Рейха.
«В том, что Вы рассказываете мне об «иконоборческом» движении, о покаянном антиромантизме, есть, однако, своя плачевная сторона.
Низкопоклонством перед неудачей отдаёт это отвращение к ценностям, которые, не проиграй Германия войны, оздоровляли бы мир <…> теперь ополчаются на Лютера, Фридриха, Бисмарка, Ницше, Вагнера, а то и на Гёте. Хотят отречься, что ли, от своей истории, от своей немецкости? Есть много правды и много доброй воли, но есть и что-то жалкое в этом самобичевании и отрицании немецкого величия, самого, впрочем, каверзного величия на свете».