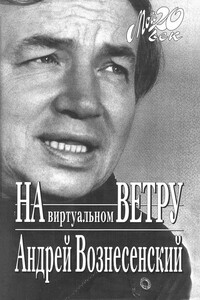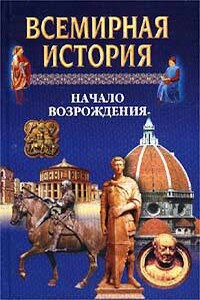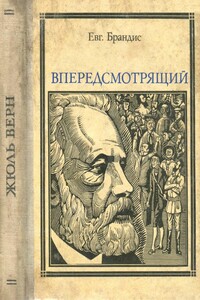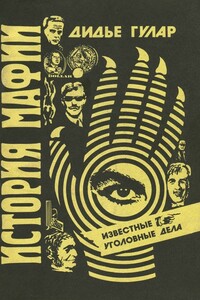Мои часы идут иначе | страница 26
Мама обескураженно молчит.
Дядя Женя принимает это молчание за знак согласия.
— С разводом вы можете не спешить, — продолжает он, — я готов ждать. Я готов ждать, как жду до сих пор, пока знаю, что вы остаетесь. Я люблю вас, мадам. И вы знаете это. И я люблю ваших детей. И это вы должны знать…
Лишь мгновение мама смотрит на дядю Женю смущенно. Потом смеется.
— Ну, Женя, — говорит она, продолжая смеяться, как будто не воспринимая всерьез того, что только что услышала. — Ну, Женя, — повторяет она, все еще смеясь и с жестом, словно собираясь добавить: «И что это вам взбрело в голову, вы, большой неразумный мальчик?..»
Потом поворачивается и уходит в дом.
Дядя Женя опустошенным взглядом смотрит ей вслед. В нем сейчас действительно что-то есть от «большого неразумного мальчика», мальчика, который еще никогда не был так унижен, как в эту секунду.
Два дня спустя денщик дяди Жени приносит маме букет цветов и маленький запечатанный пакетик. В пакетике письмо, кольцо и — скрепленная цепочкой с кольцом — револьверная пуля.
Дядя Женя застрелился.
К нашим воспоминаниям о дяде Жене теперь примешивается ненависть. Это он виновен в том, полагаем мы, что мама слегла, несколько недель страдала от душевного расстройства и смогла улыбаться лишь много времени спустя…
Папа же думает о дяде Жене иначе, чем мы, дети. «Теперь я понимаю, задумчиво говорит он однажды маме, — как из-за тебя кто-нибудь может лишить себя жизни…»
Элеонора Дузе «открывает» меня
В пять лет я в Москве.
Дядя Женя забыт. И мамой тоже. Как и на Кавказе, вокруг нее очень быстро снова возникает круг знакомых, друзей, поклонников и почитателей, однако это ни на минуту не ставит под сомнение ее любовь к папе. Мы, дети, незыблемый фундамент этого брака.
Я стою на Красной площади, название которой восходит к XVI столетию, к временам жестокого правления Ивана Грозного*. Я разглядываю Лобное место, на котором неугодные Ивану бояре расставались с жизнью; их кровь обагряла площадь красным…
Я восхищаюсь Кремлем и Собором Василия Блаженного с его пятью куполами, к которому Иван велел прорыть подземный ход, чтобы молиться, отрешившись от всего и полностью уйдя в себя. Как этот самый свирепый из всех царей еще мог молиться, после того как в приступе безудержного гнева убил собственного сына, а тысячи людей были им умерщвлены, не укладывается в моем детском воображении.
Впрочем, у меня не слишком много времени, чтобы предаваться размышлениям об этом, ведь в известном смысле в Москве для меня начинается серьезная жизнь: я иду в школу, вернее, в некое подобие приготовительной школы, нечто среднее между детским садом и гимназией. Первое, чему мы учимся, — это игре в шахматы и тем самым логическому мышлению.