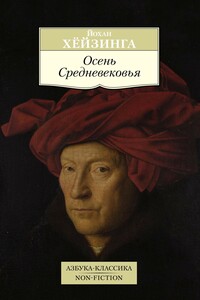В тени завтрашнего дня | страница 61
Якоб Буркхардт, проницательнее всех других видевший изъяны своего века и резче их осуждавший, удивительным образом избежал в своей концепции ренессансного человека терминов «героическое» и «героизм». Он по–новому взглянул на величие человека, и эта трактовка прибавила романтическому понятию гения страсти и выразительности. Преклонение Буркхардта перед властной энергией индивидуума и самоуверенным выбором собственного жизненного пути диссонировало со всеми идеалами демократии и либерализма. Но он никому никогда не предлагал своей точки зрения в качестве морали или политической программы. Он стоял на позиции гордого презрения, с которым одинокий индивидуалист взирает на суету окружающей публики. При всем своем почитании человеческой активности Буркхардт мыслил слишком эстетически, чтобы сотворить новый идеал практического героизма. Вместе с тем он был настроен слишком критически, чтобы высказаться в поддержку культово–мифологического элемента, нерасторжимо связанного с понятием героизма. В своих «Weltgeschichtliche Betrachtungen» («Рассуждениях о всемирной истории»), трактующих о die historische GroBe (историческом величии), он постоянно прибегает к выражению «das groBe Indviduum» («великий индивидуум»), но не к терминологии героического.
И все–гаки в одном пункте он оказался предтечей современной версии этого феномена: в соответствии с созданным им самим образом эпохи Возрождения он признает за «великим индивидуумом» фактическое «Dispensation vom Sittengesetz» («освобождение от нравственного закона»), хотя и не интерпретирует этого явления в философском аспекте.
Ницше, который был учеником Буркхардта, развертывал свои идеи о высших человеческих ценностях из совсем иных духовных перипетий, которых никогда не знал спокойно созерцающий дух его учителя. Ницше провозглашает свой идеал героического, пройдя через полное отрицание ценности жизни. Этот идеал возник в сфере, где дух оставил далеко позади себя все, что называется государственным строем и социальным общежитием, — идея фантастического ясновидца, предназначенная для поэтов и мудрецов, но не для политических деятелей и министров.
Есть нечто трагическое в том, что нынешнее вырождение героического идеала берет свое начало в поверхностной моде на философию Ницше, захватившей широкие круги около 1890 года. Рожденный отчаянием образ поэта–философа заблудился на улице раньше, чем он достиг палат чистого мышления. Среднестатистический олух конца века говорил об Ubermensch (сверхчеловеке), как будто доводился ему младшим братом. Эта несвоевременная вульгаризация идей Ницше, без всякого сомнения, стала зачином того идейного направления, которое поднимает сейчас героизм до уровня лозунга и программы.