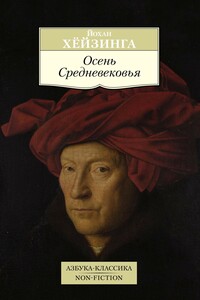В тени завтрашнего дня | страница 38
Вплоть до начала второй половины XIX века даже состоятельные слои населения стран Запада сталкивались много чаще и непосредственнее с убогостью существования, нежели мы испытываем ее на себе сейчас, принимая все жизненные удобства как что–то нами заслуженное. Еще нашим дедам было лишь в самой ограниченной степени доступно утолять боль, излечивать раны или переломы, защищаться от холода, прогонять темноту, сноситься с другими людьми лично или передаваемым на расстояние словом, надлежащим образом соблюдать чистоту своего тела, устранять грязь и дурные запахи. Человек постоянно ощущал со всех сторон естественные препоны земному благополучию. Эффективные усилия техники, гигиены и санитарного обеспечения среды обитания избаловали человека. Он утратил эту мягкую резиньяцию, это кроткое согласие с повседневной нехваткой жизненных удобств, усвоенное как необходимый опыт предшествующими поколениями. В то же самое время ему стала грозить утрата способности наивно относиться к счастью, которым удостаивала его жизнь. Жизнь стала слишком легкой. Моральные мускулы человека оказались не настолько сильны, чтобы выдержать ношу этого изобилия.
В прошлые культурные эпохи, будь то христианская или мусульманская, буддистская или любая другая, мы имеем дело со следующим противоречием. В принципе там отрицается ценность земного счастья по сравнению с блаженством на небесах или слиянием с Космосом. Поскольку, однако, все упомянутые религии признают за этим миром определенную ценность, то, признав ее однажды, они не оставляют или почти не оставляют места для отказа от самих жизненных ценностей, дарованных Богом, что было бы, во всяком случае, неблагодарным отвержением Божьих милостей. Как раз эта хорошо известная всем верующим бренность каждого вершка земного благополучия и поддерживала признание его ценности. Твердая ориентация на потустороннюю жизнь могла привести к отказу от мира, но она не допускает никакой Weltschmerz (мировой скорби).
И в наши дни мы имеем дело в этих областях с противоречиями, но совершенно иными, чем прежде. Первое из них сводится к следующему. Возрастание безопасности, комфорта и возможностей удовлетворения своих желании, короче говоря, гарантий обеспеченности жизни, с одной стороны, открыло широкий простор для всех форм девальвации бытия: философского отрицания жизненных ценностей, чисто чувственного spleen (сплина) или отвращения к жизни. С другой стороны, это подготовило почву для всеобщей уверенности в праве на счастье здесь, на Земле. Жизни предъявляются претензии. С данным противоречием связано другое. Амбивалентное положение, колеблющееся между наслаждением жизнью и ее отрицанием, характерно исключительно для индивидуального человека. Человеческое сообщество, напротив, принимает без колебаний и с небывалой прежде убежденностью земную жизнь как предмет всех своих чаяний и действий. Повсюду царит настоящий культ жизни.