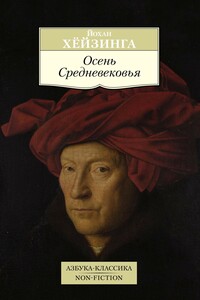В тени завтрашнего дня | страница 36
Остается пока открытым вопрос, в чем именно неизбежное признание Seinsverbundenheit, Situationsverbundenheit (бытийной, ситуационной обусловленности) мышления было прояснением культурного сознания, а в чем оно, понятое слишком категорически, могло быть предвестием заката культуры.
XI. Культ жизни
Модным ученым словечком, которое будет циркулировать в образованных кругах, без сомнения, станет «экзистенциальный». Я уже слышу его повсюду. Вскоре оно достигнет самой широкой публики. Там, где прежде, дабы убедить читателя, что он соображает лучше своего соседа, довольно долго обходились словом «динамичный», теперь говорят «экзистенциальный». Слово это позволит торжественно отступиться от духа, послужит признанием отречения от всего, что есть знание и истина.
Высказывания, которые еще сравнительно недавно сочли бы слишком нелепыми даже для того, чтобы над ними посмеяться, нынче можно слышать в ученых собраниях. Так, на филологическом конгрессе в Трире в октябре 1934 года, если верить газетам, один оратор утверждал, что от науки нужно требовать не истины, а скорее «отточенных мечей». Когда другой без должной почтительности выразился о некоторых образчиках национального толкования истории, председатель упрекнул его в «недостатке субъективности». И это, прошу заметить, научный конгресс.
Так далеко зашло дело в цивилизованном обществе. Не следует думать, что кризис способности суждения ограничивается теми странами, где восторжествовал крайний национализм. Кто наблюдает за тем, что происходит вокруг, то и дело замечает, что у образованных людей, большей частью у молодых, все чаще дает себя знать известное равнодушие к тому, какова доля истины в их идейных представлениях. Нет больше четкого различия между категориями вымысла (fictie) и истории в простом, обиходном значении этих слов. Никого больше не интересует, можно ли проверить духовный материал на предмет его истинности. Самый разительный пример этого — успех понятия «миф». Некий образ, в котором сознательно допускают элементы желаемого и фантазии, объявляют, тем не менее, «реальностью прошлого» и затем этот образ возвышают до роли путеводной нити жизни, тем самым безнадежно смешивая сферу знания и сферу желаемого.