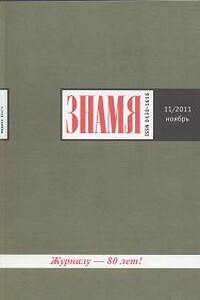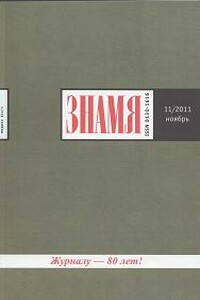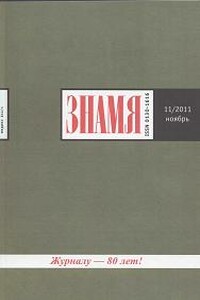«Ты права, Филумена!» Об истинных вахтанговцах | страница 30
По стечению роковых, а возможно, и мистических обстоятельств, точно так же, как мама, отец совершенно неожиданно для него лишился Вахтанговского театра. С этого момента он стал постепенно угасать. Она как будто шепнула ему: “Вот что, Жека, значит потерять театр Вахтангова. Теперь твоя очередь, милый. А я тебя тут подожду… Уже недолго осталось”.
Театра его, главного режиссера, лишили жестоко, ударом ножа в спину, как и водится во времена дворцовых переворотов. Шел перестроечный 1987 год. У власти был Михаил Горбачев, все были полны надежд на будущее, а отец, посмотрев краем глаза по телевизору выступления нового генерального секретаря, — произнес свой театрально-литературный приговор: “Это знаешь кто такой, деточка? Это Хлестаков! А все, что он говорит, — хлестаковщина! Ничего хорошего из этого не выйдет. Помяни мое слово… Он не ведает, что творит… это ведь все сплошная импровизация. С державой такие шутки не шутят!”. И определив, таким образом, место Горбачева в литературно-театральной иерархии, отец потерял к нему и к его реформам всяческий интерес. Ну неинтересна была ему перестройка — и все тут! Ему-то зачем было перестраиваться, согласно новой идеологии партии? У него была своя идеология — вахтанговская, — ей он был верен до гробовой доски. В перестроечные времена он носился с идеей поэтического театра, свято хранил традиции, был катастрофически несовременен и с большим недовольством допускал в театр режиссеров не вахтанговской школы, потому как был свято убежден, что вахтанговская сцена не выносит чужаков. В этом он был прав, ибо никому, кроме Петра Фоменко, не удалось уловить до конца суть вахтанговской эстетики. Эстетика эта требовала от режиссера определенного уровня культуры и утонченного вкуса — по нынешним временам явлений редких на русской сцене.
Вот как отец сам определяет свое преданное служение вахтанговскому искусству в статье 1984 года:
“Родившись в семье ученика Вахтангова, продолжателя его дела, Рубена Николаевича Симонова, и прожив с ним в одном доме с 1925 по 1968 год, я могу сказать с полным ощущением истины, что не было дня, чтобы мой отец не говорил о Вахтангове.… Образ Вахтангова неизменно сопровождал всю мою жизнь. И поэтому естественно, что наравне со священными для меня именами Пушкина в поэзии, Чайковского в музыке имя Вахтангова стоит у меня в этом ряду великих деятелей искусства”.
Далее отец уделяет особое значение важнейшей для него концепции поэтического театра, аполитичность и несовременность которой, по мнению его окружения и советской критики, стоила ему его поста главного режиссера. Отец свято убежден, что театр Вахтангова — театр поэтический, а не социально-политический: