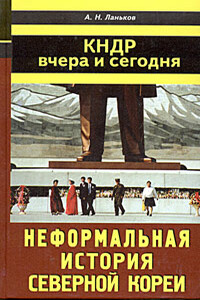Август 1956 год. Кризис в Северной Корее | страница 20
Фракционная принадлежность любого северокорейского руководителя была очевидна для всех, поскольку она определялась его биографией, а не индивидуальным выбором: человек, в конце 1930-х гг. сражавшийся вместе с партизанами в Маньчжурии, был по определению членом «партизанской фракции»; партийный работник, получивший образование в СССР и являвшийся, по крайней мере до 1948 г., советским гражданином, автоматически считался членом «советской фракции» и так далее. Члены фракций, в основном, общались между собой и продвигали своих соратников за счет сторонников других фракций.
К 1945 г. члены фракций накопили весьма непохожий жизненный и политический опыт, поэтому определенная напряженность в отношениях между представителями разных фракций была неизбежной. У интеллигентов из внутренней или яньаньской группировок было мало общего с малообразованными, но закаленными жизнью партизанами или же с прошедшими через горнило репрессий советскими бюрократами сталинского закала. Порой представители разных фракций в самом буквальном смысле слова говорили на разных языках: русский был естественным средством общения для советских корейцев, гордившихся своим российским происхождением и полученным в СССР образованием, в то время как выходцы из Яньани говорили по-китайски и находились под немалым влиянием маоистских идей. Все они, возможно, за исключением подпольщиков из «внутренней фракции», были в Северной Корее чужаками, так как они провели несколько десятилетий в изгнании или же вообще родились за границей. Впрочем, даже местные коммунисты-подпольщики по преимуществу были выходцами с Юга и далеко не всегда чувствовали себя достаточно комфортно на Севере.
Кроме того, до 1945 г. представители различных фракций практически не знали друг друга. До 1945 г. корейские эмигранты в Яньани могли иметь какие-то смутные представления о партизанской борьбе в Маньчжурии, но сами они не были непосредственно знакомы с партизанскими лидерами. До 1945 г. и эмигрантская интеллигенция в Яньани, и маньчжурские партизаны почти не имели связи с коммунистическим подпольем в самой Корее. Ни одна из трех фракций практически ничего не знала о советских корейцах, которые, в свою очередь, до 1945 г. не имели непосредственных контактов со своей «исторической родиной» (исключением были те немногие, кто в 1930-х и 1940-х гг. работал в советских спецслужбах). Немалую роль в этом сыграла проводившаяся в СССР с конца 1920-х гг. политика самоизоляции страны, а также своего рода «негативный отбор», вызванный событиями середины 1930-х гг.: те из советских корейцев, кто поддерживал пресловутые «связи с заграницей», имели куда меньше шансов уцелеть во время массовых репрессий 1936–1938 гг. (среди корейцев эти репрессии отличались особой свирепостью). Слабые связи между группировками в Корее накануне освобождения подготовили питательную среду для фракционализма, который стал серьезной проблемой в северокорейской политике после 1945 г.