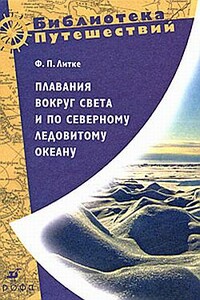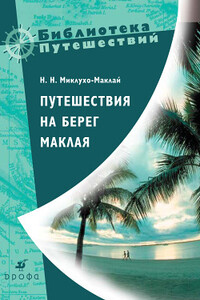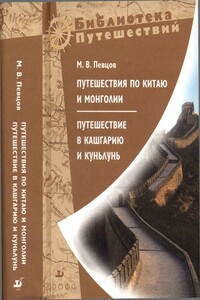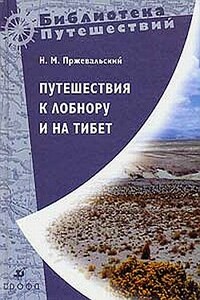Путешествие в Тянь-Шань | страница 9
Постников Алексей Владимирович,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор технических наук, действительный член Российской академии естественных наук, член-корреспондент Международной академии истории науки (Париж), член-корреспондент Европейской академии наук (Брюссель), председатель комиссии по истории картографии Международной картографической ассоциации (Амстердам), асессор отделения истории науки и техники Международного союза истории и философии, науки и техники США, кавалер золотой медали им. Н. М. Пржевальского и золотой медали им. П. П. Семенова Русского географического общества, член Президиума и Совета Русского географического общества
Глава первая
Заключение Парижского мира. – Моя поездка в деревню и возвращение. – Первые мероприятия Александра II – Поддержка, оказанная моему путешествию Географическим обществом. – Переезд Нижний – Казань – Кунгур – Урал и Екатеринбург. – Западно-Сибирская низменность. – Сибирская езда и некоторые особенности местного населения. – Ишимская степь. – Иртыш и Омск. – Генерал-губернатор Гасфорт. – Потанин и Валиханов. – Барабинская степь и Каинск. – Переправа через Обь в Бердском. – Барнаул. – Путешествие на Алтай. – Колыванское озеро. – Змеиногорск. – Реки Уба и Ульба и окружающие их белки. – Риддерск и Ивановский белок. – Путь в Семипалатинск
Ко времени моего возвращения в Петербург в 1855 году из двухлетнего заграничного путешествия во всех слоях столичного общества происходили оживленные толки о том, следует ли спешить с заключением мира или, наоборот, продолжать войну. Весь промышленный и финансовый мир стоял за скорейшее заключение мира, в военных же и патриотических кругах преобладало мнение о продолжении войны.
Тем не менее в правительственных сферах стремление к миру одержало верх, и князь Орлов был послан на Парижскую конференцию.
В начале осени я приехал к себе в деревню, где имел счастье встретить моего уже трехлетнего сына здоровым и невредимым: с необыкновенной любовью и самоотвержением вырастила его достойная воспитательница моей жены, Екатерина Михайловна Кареева.
С наступлением первых признаков весны 1856 года я поспешил вернуться в Петербург, где у меня было много дела. Мирные переговоры в Париже уже шли к концу, а ни о каких реформах еще не было слуху, хотя передовые люди столичной интеллигенции были глубоко убеждены, что самая неизбежная из реформ – освобождение крестьян – не заставит себя долго ждать. В провинции, наоборот, поместное дворянство было еще очень далеко от мысли даже о возможности освобождения крестьян. Конечно, и в Петербурге никто не решался называть предстоявшую законодательную реформу «освобождением крестьян». И когда первым законодательным актом царствования Александра II явилось высочайшее повеление о каких-то переменах в военных формах, – причем, между прочим, в форме генералов были введены красного цвета брюки, – то это дало повод лицам, склонным к легкому остроумию, говорить: «Ожидали законы, а вышли только панталоны!»