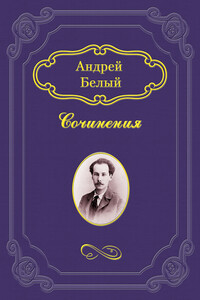Книга 2. Начало века | страница 80
Кое-где пробежит пешеход; генерал Щелкачев чешет мимо; Истомина, бледная барышня, за угол скроется; Эллис в шубенке с чужих плечей дергает: в Неопалимовский; к вечеру в саночках едет кудрявый Бердяев; и — шапка в мехах; и под мехом вихляются черные кудри, серебристые снегом. И ходит расчесанный, мытый козел, перевязанный лентой, бодает прохожих с большим удовольствием.
Левшинский, Мертвый, Обухов, Гагаринский? Точно не знаю; но знаю: в домах этого пречистенского переулочка было жунденье — «святися, святися» — меж водкою и меж селедкою; перед закусочным столиком сидел застенчивый, пристальный и коренастый Серов.
Всюду быстрым, танцующим шагом с седою улыбкой Рачинский влетал, оправляя свой галстук, склоняясь к руке, и над ухом жундел, точно шмель над цветком: он врачу, коммерсанту, профессору, барыньке бархатным очень
невнятным густым тембром голоса мед свой с пыльцою нес в ухо, как шмель в колокольчик вникая; и слышалось:
— «Первосвященник, надев — Урим-Туним… Бара берешит… Бэт харец…» — сыпал текстами: по-итальянски, еврейски, немецки, по-русски.
Устав, впав в невроз, поднимал, точно жужелжень му-ший; мозаика пестрых цитат в ускорениях голоса перетрясалася: каша во рту!
Появлялся Петровский; и, бережным жестом извлекши, его увозил. Один критик в 1902 году назвал Рачинского балаболкой, забывши, что — всякие есть; и тимпаны, и гусли, если угодно, суть балаболки; но я их предпочту критику-пошляку; среди Булгаковых и Трубецких был единственный он песнопевец; его гимны о культуре — д'Альгейму, Морозовой, Метнеру доселе мне памятны; средь «Дома песни», в «Эстетике» — он поражал жизнью нас; пестун всех нас, в известный период вынашивал он наши молодые стремления; в часы же досуга писал он стихи: грустны и строги строчки его антологий; пародии на Алексея Толстого (поэта) — и сильны и звучны; один из первых он оценил Брюсова, Блока; от Мережковских его воротило; Евгению Трубецкому меня объяснял.
Роль Рачинского, певшего в уши старопрофессорской Москве о культуре искусств, ей неведомой, в свое время была значительна.
Бывало, придешь к нему: из кабинетика он, припадая на ногу, выходит, сжимая толстейшую, скрученную им же самим папиросу; свисает гладчайше короткая синяя широкоплечая, короткобортная курточка; и расплываются пухлые губы на белопухлявом, а то красно-розовом (коли — приливы) лице; припадая стриженою бородкою к уху, он теплую руку кладет на плечо:
— «Сотвори господь небо и землю… Бара берешит Элогим».