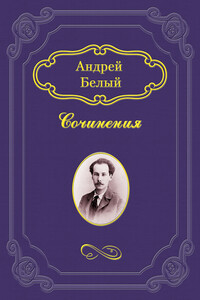Книга 2. Начало века | страница 60
Будет день, и покрывало Изиды спадет с его лика!
Эртель втирал в души Индию как историк древних культур, читавший и Дейссена; пленил он Бальмонта, взяв тон превосходства над ним; Батюшкова перевертывал он — так и эдак, эдак и так: с объятиями, с потрясением рук, поглаживанием по плечу и с лобзаньем взасос: «Дорогой Павел Николаич — гыы-ы-ы». «Дорогой Павел Николаич — гы-ы» выпускал килограммы пара; и взвизгивал:
— «Миша… — как свистком в потолок, с оскалом до ушей; пауза, пых: — глубже, чем о нем думают».
— «Тэк».
И Батюшков впадал в каталепсию размышлений о миссии Миши; Эртель был потрясением Батюшкова; роль «посвященного» свалилась, как на голову снег; он был нервен; мнения о нем в нем пылали видениями «сорока тысяч курьеров»;>133 бледнел, зловеще блистал косым карим глазом, зеленым от лжи; огонь разрывал благодушие, пересыпанное нафталином.
И — в кресле сидело нечто — непередаваемое: по ужасу! Компресс на голову! Навалиться бы скопом, связать, положить на диван! Быт препятствовал: мамаша, сестрица, Танеевы, Масловы; эти не понимали, как может Миша калечить жизни. Вопили хором:
— «Не обижайте Мишеньку!»
Блюли Мишу и механицизм, и наивный реализм от… — «символистов», поставивших задачу сорвать с него маску; Миша возобновил посещенья Танеевых, являясь в Демьяново, где разгуливал по аллеям с «Аркашею» Тимирязевым (так его называл), с его папашей и с богохульником, Владимиром Ивановичем; когда я поздней написал фельетон-притчу, в которой изобразил Мишу под маской «великого лгуна», то материалист танеевского толка корил меня:
— «Зачем ты ушиб Мишу: он — добрый!»
Последний его приют — Москва восьмидесятых годов; материалист Танеев его защищал.
Перевоплощаясь в каждого, этот Пер Гюнт>134 с остервенением вздувал «болезнь» в каждом, ее унюхав; таская меня по Пречистенскому бульвару, схватывал за руки, катался овечьими глазками:
— «Боинька, пожай теуйгии охватит всегенную». Делалось — нехорошо.
Когда упирались, то, вдохновленный видением «сорока тысяч курьеров», апеллировал к сочиняемой им литературе несуществующих предметов знания; эти «предметы» вылуплялись из потребности вывернуться, когда его ловили на лжи.
Сперва он врал в мелочах, рассказывая, как плавал в лодке с Харитоненками по залам харитоненковского особняка: в дни наводнения; потом ложь стала причинять неприятности: взволновав Грабаря сведениями о старинных особняках, уверил его, что где-то есть неописанный памятник Фальконета; говорят, — Грабарь лупил за розысками в какие-то медвежьи углы.