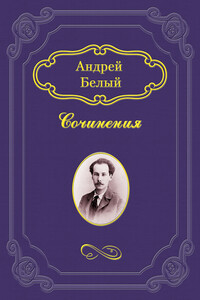Книга 2. Начало века | страница 38
— «Я так и думал!»
Прочел «Симфонию» и братец Сергей; и отнесся к ней весьма иронически; вероятно, — подозревал он, что автор — я, потому что раз, выведя меня на двор из своей душной комнатки, где он выкурил без проветра, наверное, пятьдесят папирос, строча десятки страниц кандидатского сочинения о Лотце, он, защурясь от солнца и взяв за рукав, с ироническим благодушием прогудел прямо в ухо:
— «А знаете, — в этой „Симфонии“ есть такие фразы; например: солнечные лучи названы „металлическою раскаленностью“. У меня, знаете, тут делается, — показал он на лоб, — „металлическая раскаленность“»>92, — и мертвенно-белое лицо, напоминающее кость, изошло морщинками неврастенического страдания; и я подумал невольно:
«Еще бы не делаться: кандидатское сочинение о Лотце, писанное в таком темпе, доведет и до того, что… сядешь, раскорячась, под стол».
Бедный Сергей: кандидатское сочинение о Лотце не было оценено старым «лешим», Лопатиным; Сергей не был оставлен при университете.
Философ, свихнувшийся на Канте и севший на пол, долго пользовался популярностью среди неокантианцев; и в 16-м году Кубицкий, с которым мы встретились при военном освидетельствовании>93, показывал на голые тела кандидатов на убой; только что бывший сам телом, наклонился ко мне и иронически пробасил:
— «Они сели на пол… Помните, — как ваш философ!»>94
Обиделся на философское «сиденье на полу» в те годы — философ Б. А. Фохт.
С весны 1902 года Лев Кобылинский стал своим в нашем доме, своим у Владимировых; он являлся и к Соловьевым; мать моя называла его попросту Левушкой:
— «Левушка, — как же ему не позволить кричать: разве ему закон писан?»
— «Да-с, да-с, — так сказать», — поддакивал и отец>95.
Эллис
Лев стал «Эллисом»; до тринадцатого года он сплетен с моей жизнью.
Видя позднее в удобствах его, говорил себе: «Не типично!» Меблированные комнаты «Дон», те — типичны; они помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади среди соров и капустных возов; дом стеной выходил на Арбат (против «Аптеки»); другим боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим — в паршивые домики, с чайною: для извозчиков; обедал Лев в трактироподобном ресторанчике для лавочников, под машиной, бабацавшей бубнами «Сон негра»>96, изображаемый Эллисом — лавочникам Сенного ряда; и — нам.
Поссорившись с братцем Сергеем и с матерью, он водворился в «Дону», ячейке «аргонавтизма», с дверью на площадь, с «добро пожаловать» всем; люди в рваных пальтишках и без калош: стучали каблуками в пустом «донском» коридоре, прошмыгивали в номер шесть, где в дымах сидели на окнах, в углах, при стенках (на корточках); большинство в пальто, стоя, внимало и пыхало дешевыми папиросами; бывало, разглядываешь: Ахрамович, Русов, Павел Иванович Астров, хромой драматург Полевой (капитан в отставке), Сеня Рубанович (поэт), Шик (поэт), Цветаевы (Марина, Ася)