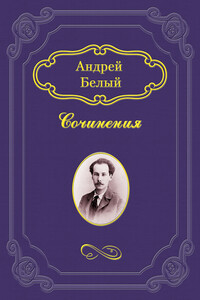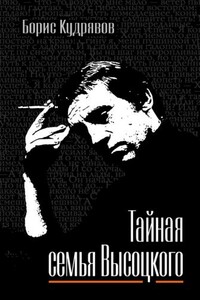Книга 2. Начало века | страница 36
— «Николай Васильевич!»
— «Папа же!.. Лева!»
— «Позвольте!»
— «Ты, Боря, оставь меня», — Лев выбарахтывается.
Схватяся руками, друг друга держа, теребя и подталкивая, обрывали друг друга; и слышался рявк угрожающий:
— «Нет-с, как можете вы эдак… Лейбниц! Да Лейбниц громада-с! Он полон, сказать рационально, — возвышенной мудрости».
— «Мир наилучший?.. И стало быть, — наилучшая зубная боль? Городовой наилучший?»
— «Позвольте-с, — вы бросьте-ка пошлости эти и, да-с, да-с, кондачки эти-с, — знаете, бросьте: городовой ни при чем-с!»
— «Нет, — при чем!»
— «Ни при чем-с!»
— «Папа! Лева!»
— «Лев Львович!»
Отец уже пятит усы, ощетинившись ими, как морж; Лев, держа его за руки, дьяволическим хохотом, а не словами — раззадоривает-; и уже сплошной гавк отца, как удары тарана, разрезаемые острым визгом, как саблей дамасскою, Льва; друг друга не слушали: себя слушали; и в два голоса, вертясь в углу вкруг друг друга, друг другу кричали, болтаясь локтями: один — за светлейшее, знаете, будущее человека; другой, что мир — падаль.
И долго ходили и фыркали, вдруг расцепясь и выкрикивая свои обращенья — ко мне почему-то:
— «Ты, Боренька, помни: страданья — лишь переход, так сказать, к высшим формам гармонии…» — отец.
— «Помни, что в желтом доме находят убежище лучшие», — Эллис.
За сладким мирились; а после отец, зацепляясь карманом своей разлетайки за двери и бацая шагом, — к себе, в кабинет, отдыхать; Кобылинский же — мне, плюясь в ухо и дергаясь плечиком:
— «Я, сказать правду, я… Николая Васильевича понимаю: кричит о гармонии он из надрыва, чтоб перекричать это вот», — и рукою в окошко: и там, за окошком, внизу вывеска — «Выгодчиков» — колбаса, мясо красное>89.
— «Николай Васильевич безумец!» «Безумец» же есть комплимент.
Со своей стороны мой отец, отдохнув, за вечерним чаем, раскладывая пасьянс, — неожиданно:
— «Боренька, да-с, — перекладывается с карты карта (на карту), — ну, что говорить: Кобылинский — талантливый юноша! Из всех товарищей твоих он-с наиболее, так сказать…»
Не досказав, что есть «так сказать», — освирепевши всем видом (всегда свирепел выражением лица, когда речь свою прятал в усы), перекладывал карты.
И — мать:
— «Ну, еще бы!»
Кобылинский, отец воспылали друг к другу — ведь вот — откровенною нежностью; и даже позднее немного столкнулись, союз заключив против… Брюсова: против влияния Брюсова на меня; Кобылинский на том основании, что все эти Бальмонты, Верлены и Брюсовы — жалкие мошки; и, стало быть, — надо давить их, а не разводить, потому что они заслоняют Бодлера; отец же имел основания бояться влияния Брюсова, видя, что я хаживал на журфиксы к последнему: бедный старик еще думал, что я увлекусь напоследок коли не химией («Ведь у Зелинского, у Николая Дмитриевича, в корне взять, заработал»), то хоть… географией, хотя последняя — что за наука-с? Еще не знал он: уже выходила первая моя книга, «Симфония»; будущее мое решено… Вот и думал он: в союзе с блестящим студентом отводить от Брюсова; Кобылинский отцу твердил: Брюсов пишет белиберду; и отец, позабывши о том, как вырявкивал он строчки Брюсова, таял от этого; и соглашался, чтобы не перечить, на веру Бодлера принять; Кобылинский читал ему «Падаль» [Стихотворение Бодлера] в плохом переводе своем;