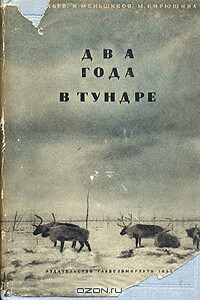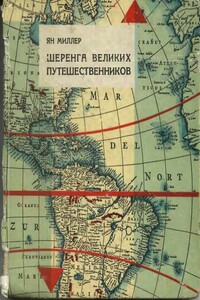Вокруг Света 1998 № 02 (2689) | страница 75
В итоге я имел наутро больную голову и сонливость, которая не развеялась даже на барже. Самое время было отоспаться.
Когда я вошел в каюту, Раджаб сидел на своей койке с потрепанным томиком рассказов Чехова на коленях и тискал в длинных костистых пальцах огрызок карандаша.
— Письмо пишешь? — спросил я. Вместо ответа он протянул мне тетрадь, где вкривь и вкось толпились буквы русского алфавита, иногда сливаясь в слова.
— Пиши, — попросил он.
— А что писать?
— Сам знаешь.
Я написал три слова: «Дверь, река, небо» и предложил прочитать их. Раджабу были известны все буквы, кроме одной. Битый час я пытался объяснить ему, что такое мягкий знак, которого не было в туркменском, и когда в конце спросил, что это за буква, он радостно сообщил: «Мягкий булочка».
Вошел Качкар, покосился на наши старания и буркнул, стукнув себя полбу:
— Девяносто девять.
Очевидно, по его убеждению, в голове у матроса не хватало одного винтика до ста, так что напрасно тратить с ним время. Я же убежден был, что все дело в умении объяснить урок, и настырно пытался добиться своего.
Когда Качкару надоели наши старания, он взглядом отослал матроса на палубу и завел со мной беседу о том, как ценят на реке его опыт. Таких ветеранов, как он, которые плавали по Амударье еще до войны, в пароходстве почти не осталось.
— Значит, нравится работа? — спросил я.
Он поморщился, ответив, что заработки стали совсем хилые, и вдруг оживился, вспомнив, как жил здесь в войну. В низовьях реки муку покупал за сто рублей килограмм, в верховьях продавал за тысячу. Виноград в верховьях тоже дорогой был. Набьет им, бывало, полную каюту, сам на палубе едет.
— На фронт не брали? — спросил я.
— Зачем на фронт?.. Военкому сунешь, сколько надо, — и никакого фронта. Вот жизнь была! — воодушевленно засверкал он глазами. — Бабы голодные вповалку лежали. Какую хочешь выбирай. Сала, водки купишь — и в каюту.
— Так уж «какую хочешь»? — недоверчиво переспросил я.
— Какие упрямые — с голоду дохли. Где к берегу пристанем, там ночью и хоронили. Вай, сколько хоронили...
У меня в глазах потемнело. И даже не потому, что сам я мальчишкой в то грозное лихолетье откатывался с толпой беженцев через эту пустыню в глубь страны и, может быть, кто-то из тех сердобольных соседок по купе, что делились со мной скудными припасами, умирали потом здесь от голода на виду у жиреющего на чужом несчастье Качкара.
Сам хвастливый цинизм его, неприкрытое торжество тупой сытости так и напрашивались на оплеуху. Но не привык я выяснять отношения таким образом. И, не дослушав откровений шкипера, вышел на свежий воздух.