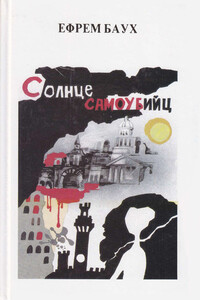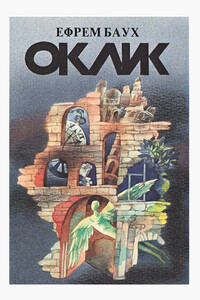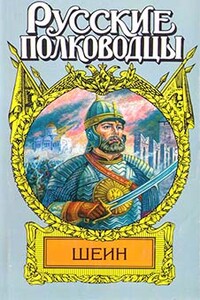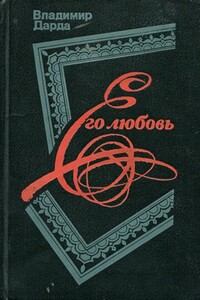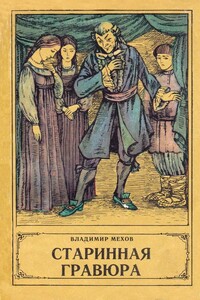Иск Истории | страница 65
Это была История, напрочь изгнавшая Лик Другого, лицо милосердия, обращенного к слабому, нищему, узнику и, в первую очередь, к еврею, к кому еще на заре человечества взывали о милосердии еврейские пророки.
Это была философия, строящая себя на тождестве, которое замыкало ее на самой себе, в корне подавляя «этический порыв» во имя насилия онтологии и феноменологии. И они шествовали убедительно-победительно, отбросив этику на обочину или снисходительно дав ей роль терпимой служанки, наблюдающей в страхе с черного хода за шествием фанфар.
Нельзя сказать, что эта история и эта философия не видели Другого. Наоборот, они стремились его схватить, им обладать.
Но «обладать, схватывать, познавать – все это синонимы власти» (Эм.Левинас. «Время и Другой»). Обладание и власть разворачивались ими в уподоблении собственным прошлым формам, в самоотождествлении с этими формами, которые предоставляли алиби историческому и философскому насилию, основанному на политическом и техническом насилии, покрывая ложной невинностью философскую речь – эту необузданную стихию метафоричности со всей ее развращающей силой влияния. Как сказал Борхес: «Возможно, вся всемирная история – это история нескольких метафор».
Только на дне бездны можно было понять исторгнутый псалмопевцем крик души «Из глубин взываю...», ощутить, что не все поглощается и потребляется.
Каких бы высот ни достигала Тотальность, Всевышнее выше любой высоты, и никакой прирост этой высоты не может служить ему мерой, ибо Всевышнее не принадлежит ни времени, ни пространству, не входит в счет вещей и событий. Оно противостоит этой Тотальности.
«Бог – это Другой», – говорит Левинас, и Тотальность стремится этого Другого нейтрализовать, пользуясь хайдегтеровской онтологией, которая, по сути, наука об эгоизме, в своей крайней грубой форме скатывающаяся в беспощадность политики, полиции (вспомним форму, формулу, формулировку – «гехаймише статс полицай» – государственная тайная полиция – гестапо). И словно бы сама об этом не подозревая, – феноменология, идущая от Гегеля к Гуссерлю, одалживает этой онтологии свою утонченную и отточенную временем форму.
Парадоксальным образом эта философия нейтрального подспудно и подсудно сливается с философией места (почва и кровь). В этой философии – спесивая укорененность (в противовес Вечному Жиду), языческое насилие, с энтузиазмом чернорубашечника обращенные к сакральному, безымянно божественному. «Божественному без Бога» (Эм.Левинас. «Трудная свобода»).