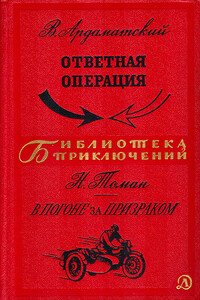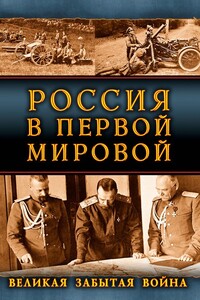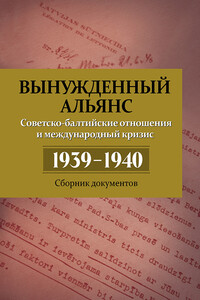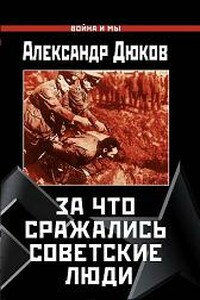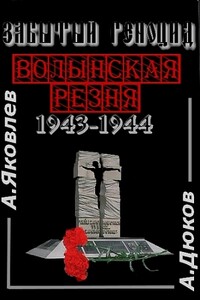Загадочная Отечественная война | страница 57
— Ну как, пшено посеяли? — спрашиваю.
— Все в порядке! — отвечают. — Распорядитесь, завтра что сеять?
— А что у вас во втором амбаре?
— Мука! Давайте завтра ее сеять! — хохочет пьяный мужик.
— Не смейтесь, — говорю, — муку не сеют!
— Почему не сеют? Раз сегодня кашу посеяли, значит, завтра и муку сеять будем.
Меня как обухом по голове ударило:
— Как кашу сеяли? Да разве пшено — каша?
— А вы думали — посевное? Ободранное зерно — это каша, а вы распорядились ее в землю сеять….»[175] Автор намеренно не стал сокращать столь большую цитату, чтобы читатель хоть на миг мог себе представить, что происходило тогда в деревне. Помимо трагического курьеза с засеванием каши (трагического, потому что для автора воспоминаний он кончился арестом по обвинению во вредительстве), данный отрывок хорошо показывает психологию коммуниста по отношению к крестьянам. Обратите внимание на момент, когда автор воспоминаний впервые почувствовала неладное: это появление в деревне веселья. Вопреки бравурным лозунгам «жить стало лучше, жить стало веселее» для коммуниста веселье крестьян — сигнал тревожный.
А теперь попробуем ответить на вопрос — могла ли политика коллективизации достигнуть тех экономических целей, которые декларировались при ее начале? Напомним, что в результате коллективизации были ликвидированы кулацкие хозяйства, поставлявшие в 1929 году товарного хлеба больше, чем колхозы, на спецпоселение были высланы наиболее компетентные и трудолюбивые крестьяне, новые хозяйства возглавили «идейно подкованные», но мало что понимающие в сельском производстве коммунисты — 25-тысячники. Могли ли эти меры дать прирост сельскохозяйственной продукции? Любой здравомыслящий человек ответит на это: конечно, нет.
Положение усугубил и еще один фактор: не желая отдавать свой скот в общее хозяйство, крестьяне начали массово забивать его, что приводило к общему сокращению продовольственного фонда страны. Писатель Олег Волков вспоминал о тех временах: «По деревням мужики, таясь друг от друга, торопливо и бестолково резали свой скот. Без нужды и расчета, а так — все равно, мол, отберут или взыщут за него. Ели мясо до отвала, как еще никогда в крестьянском обиходе не доводилось. Впрок не солили, не надеясь жить дальше. Иной, поддавшись поветрию, резал кормилицу семьи — единственную буренку, с превеликими трудами выращенную породистую телку. Были как в угаре или ожидании Страшного суда»[176].
В цифрах это выглядело следующим образом: