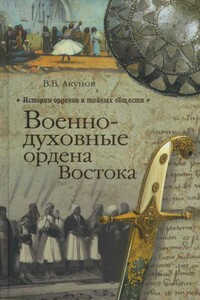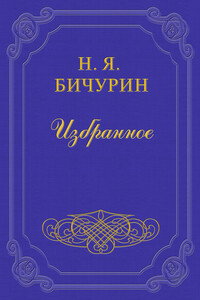Жизнь и деятельность Архиепископа Андрея (Князя Ухтомского) | страница 34
Революция, уничтожившая царский деспотизм, открыла широкие возможности для развертывания церковной деятельности. Однако плевелы петровских реформ пустили глубокие корни в среде русского общества и ядом цезаропапизма парализовали нравственное самосознание духовенства и мирян. Временное правительство, по опре-
50
делению епископа Андрея, в лице революционного обер-прокурора явилось достойным преемником победонос-цевского ведомства и ставило проблему антиномии Церкви и государства на старую почву. Под видом революционных преобразований в новосозданном Синоде насаждались принципы подчинения Церкви политическим задачам новой власти. Обер-прокурор В.Н.Львов самолично решал важнейшие вопросы, игнорируя мнение духовенства*. Об этом писал еп. Андрей, открыто высказывались на Соборе протопресвитеры Щавельский и Любимов. В частности, вопреки призывам духовенства, у приходов были отобраны школы, коим отводилась ведущая роль в деле обновления церковной жизни. Новый глава Ведомства православного исповедания принимал решения, явно противоречащие канонам, и в своей работе опирался именно на те круги, которые недавно верой и правдой служили самодержавному цезаропапизму и уже были готовы трудиться под началом нарождавшейся новой власти, ибо принцип всеобъемлющего подчинения Церкви государственной власти с поразительным постоянством брался на вооружение различными политическими силами, независимо от классовых перегородок.
Именно так оценивает епископ угнетенное положение Церкви, и борьба всевозможных политических теорий не может поколебать его выводов о том, что все их выразители стараются поставить православие на службу партийным лозунгам и тем самым внести принцип, который преосвященный Андрей определил как «цезаропапизм наизнанку», под которым понимал охлократию всех цветов, вне зависимости от образовательного и имущественного ценза.
Привычное к подчинению духовенство почти беспрекословно повиновалось любому командному окрику светских властей: силы воинствующей Церкви были подорваны расколом XVI века и наиболее деятельная ее направила все свои усилия на укрепление и сохранение
* Это можно было предвидеть, зная о настроениях Львова в тот период, когда он возглавлял Церковную комиссию в Государственной думе.
51
часть древней традиции под ударами российской инквизиции. Высшая иерархия давно превратилась в церковных магнатов, а рядовое духовенство привыкло автоматически следовать рекомендациям «Церковного вестника», бывшего барометром самодержавной политики, и строго ограничивало деятельность клира внутрихрамовым исполнением треб. Произошла «атрофия нравственного чувства» (96, 595) и когда флюгер исчез вместе с царизмом, духовенство в растерянности опустило руки, ибо за два века разучилось самостоятельно мыслить и действовать. Вместе с самодержавием, которое было одновременно и идолом клира, и его охраной, был с корнем вырван авторитет церковной власти и народная ненависть, разбуженная революцией, обрушилась на православные святыни. Наступило время воздаяния за преступное сотрудничество с деспотизмом.