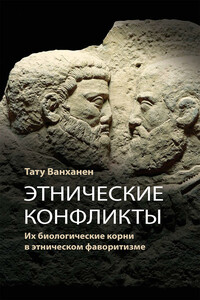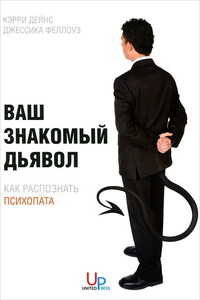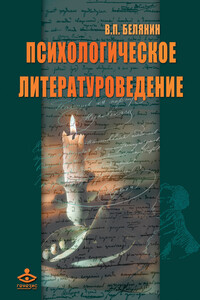О характерах людей | страница 29
«Теорию», как и «гармонию», понимают обычно и широко, и узко. В широком смысле теория (в отличие от практики) – обобщение практики в научных положениях, учениях. В этом смысле можно говорить и о теоретических положениях, например, в экспериментальной физике, физиологии, клинической медицине, педагогике. Здесь обобщения возникают из экспериментов, клинического и педагогического опыта. Но в узком смысле теоретическое мышление – самособойное (из себя самого), аутистическое, символическое развитие-усложнение мысли, как это происходит в теоретической физике, теоретической математике и т.п.
Так же и «гармония» в узком смысле (та гармония, о которой обычно говорят, что она красива) есть именно аутистическая гармония, в сравнении с гармонией как волшебной соразмерностью вообще (например, в синтонно-сангвинической музыке Моцарта или Штрауса). Мысли, речь замкнуто-углубленного человека проникнуты именно аутистической теоретичностью, аутистической гармонией, логикой, хотя, с точки зрения иного реалиста, все это может быть «мимо» реальности.
Замкнуто-углубленному трудно любить человека непосредственно – не через идею, концепцию, Красоту, не через Бога. В теоретичности главная сила аутистического ученого – математика, физика, астронома, конструктора. Поэзия аутистических художников обычно также напряжена мыслью, философичностью, часто религиозной (к примеру, Боттичелли, Вермеер, Тютчев, Лермонтов, Блок, Ахматова, Пастернак). Для аутистических юристов, правозащитников Право есть Бог – а иначе они не могли бы со всей душевной заботой защищать права и мерзавца-преступника.
Теоретичностью, символичностью, религиозностью души замкнуто-углубленных одухотворенных мыслителей (писателей, ученых) объясняется и их нередко красиво-суховатый, отрешенно-бескровный, нередко «готический» в своей сложной и нежной тонкости язык (Августина, Тютчева, Лермонтова, Фрейда, Короленко, Мережковского, Т. Манна, Гессе, Швейцера, Ясперса, Леви-Стросса, Роджерса, А. Сахарова, Лихачева) – в сравнении с природно-реалистическим, одухотворенно-полнокровным языком мыслителей-реалистов (Гиппократа, Пушкина, Дарвина, Павлова, Чехова, Э. Кречмера, Ганнушкина).
В аутистическом языке больше мыслительно-духовного страдания-переживания, нежели душевно-реалистического наблюдения-раздумья, а значит, и меньше природно-этнографического, живой плоти бытия, характеров, больше универсально-человеческого. Национально-психологическая почва как бы осыпается здесь с отстраненно-теплых общечеловеческих символов, сплетающихся в Гармонию. Так, кстати, и в музыке Шаляпин противопоставлял аутистического философа Рахманинова полнокровному жизнелюбу Мусоргскому. Так и кинорежиссер Тарковский на Западе на съемках, не зная английского, чувствовал Гармонию «мимо» языка. Нередко именно поэтому аутист склонен к единобожию и не склонен к язычеству, национализму (если, конечно, это не является содержанием его теории).