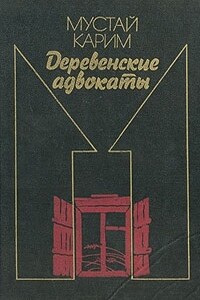Долгое-долгое детство | страница 23
- Знаю. И про немецкий осколок знаю, и "кто виноват" - знаю. Нет, твое легкое тогда, в курбан-байрам, надорвалось. Разве поддалось бы оно какому-то жалкому, с ноготок, осколку? Не та у тебя порода. Недаром же про ваш род говорят, что сердцевина в вас дубовая. Эх, детство, глупое детство! - вздохнул он.
Всегда так было - Хамитьяна уговорами не возьмешь, только бранью и убедишь. Я вспомнил это.
- Ты что это, Огуречная Голова, надо мною причитаешь? - как мог, прикрикнул я. - Помирать я покамест не собираюсь. А ты, как заявился, все слюни тянешь. А еще милиционер...
- А ты и не умрешь, - вдруг сказал Хамитьян. - А слез моих и угрызений совести не принижай. Тебе это не пристало.
Мне стало жаль Хамитьяна, будто сидел передо мной тот давний, в муках и мытарствах росший сирота.
- Ты не умрешь, - тихо повторил он. - По тебе уже раз погребальную отпели. Теперь пусть подождут. Не то больно часто будет.
- Когда? Как?
- Что - не знаешь?
- Не-ет! - изумился я.
- В сорок третьем. Разве тебе никто не рассказывал?
- Нет, не рассказывал...
- Рассказать, что ли?
- Расскажи. Должно быть, про свое погребение слушать не скучно...
И рассказал Хамитьян историю, в которой я вроде бы уцелел - другого смерть ухватила. Уцелел я. Уцелел, да не уберегся. Вечную рану в душе эта история продрала. Потом Хамитьян ушел. Мой взгляд упал на сверток, лежащий на тумбочке в изголовье. Я развернул газету с одного угла. Там лежали сморщенные желто-зеленые два яблока.
Он ушел. То была последняя наша встреча, последнее расставание. Потому что вскоре я услышал страшную весть: на каком-то полустанке он бросился защищать юную девушку от пьяных бандитов - и его в сердце ударили ножом. В тот день, говорят, он и не при службе был. Весть до меня дошла не сразу, я даже на похороны к нему не попал.
Он мне тогда хотел одно легкое, половину жизни отдать. Недолго прошло - и чьей-то жизни ради свою жизнь отдал, всю и разом.
После этой вести два чувства начали подтачивать мой дух. Одна боль - страшная, такая нежданная и быстрая - смерть друга-ровесника, другая - собственная моя целость-сохранность, мысль, что жив остался, лишили покоя. После того, что рассказал Хамитьян, стало мне казаться, будто, сам того не ведая, угнал я чью-то жизнь, словно коня из чужого косяка, будто живу я теперь жизнью, кем-то одолженной мне. Мысль эта лежу ли, хожу ли - бьется в мозгу: "только в долг", "только в долг", "только в долг"...
А ведь своим рассказом он меня ободрить хотел, успокоить, надежду мою укрепить, он мне этим будто долгую жизнь сулил. Да все не так вышло. Одна вроде единственная у меня голова, а куда приткнуть - не знаю. Вот она, эта история. Как мне Хамитьян, покойник, поведал ее, так слово в слово и перескажу.