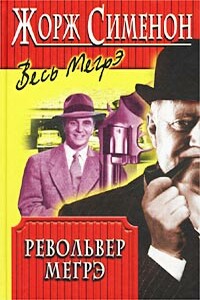Дождь идет | страница 20
А ведь нельзя даже сказать, чтобы мадемуазель Фольен была уродлива. Она мне казалась старой, но вряд ли ей тогда перевалило за сорок, она и сейчас еще жива и, верно, занимает ту же самую комнату, где провела всю свою жизнь. Когда \лучилось несчастье, именно мадемуазель Фольен похоронила моего отца, а позже, когда я был уже взрослым молодым человеком, она же одолжила мне все свои сбережения, при обстоятельствах, которые я предпочитаю не вспоминать.
Я не желал называть ее тетей. Она приходила без пяти минут восемь из боязни недодать нам хотя бы одну минуту. И в то же время отказывалась брать деньги за те многие часы, которые по другим дням проводила у нас, заменяя матушку в лавке.
У нее был высокий лоб, глаза китаянки или куклы и большая брошь в виде камеи, пристегнутая к черному шелковому корсажу, под которым не было даже намека на женские формы.
И хоть бы я съедал конфеты, которые она считала себя обязанной приносить по пятницам, — нет, потому что они были облиты цветной глазурью.
— Не надо ей говорить об этом… Я куплю тебе другие… — так решила матушка.
И на следующий день конфеты съедали два наших жеребца — Кофе и Кальвадос!
Мадемуазель Фольен никогда не приходила с пустыми руками. Это была у нее даже какая-то страсть. Ей всегда представлялось, будто она делает слишком мало, остается в долгу, тогда как я совершенно уверен, что платили мы ей за полный рабочий день никак не больше двух франков, ну и еще кормили обедом и в четыре часа давали чай.
Если она из отцовских старых брюк перекраивала мне штанишки, то захватывала из дому кусок сатина или тафты на подкладку.
— Незачем брать хороший товар из лавки… — говорила она. — У меня остались лоскуты от манто, которое я на прошлой неделе шила мадам Донваль…
Когда мы в то утро поднялись в комнату, тетя Валери сидела наряженная в шелковое платье, словно собралась в гости.
— Ты мне поможешь, Жером? — попросила мадемуазель Фольен.
Надо было подтащить к свету задвинутую в угол швейную машинку, на которой, сколько я себя помнил, никогда не было крышки. Вероятно, отец купил ее, подобно большинству вещей у нас в доме, на какой-нибудь деревенской распродаже.
Мадемуазель Фольен с удовольствием посматривала на керосиновую печь и на яркое красное пламя; она всегда зябла и по утрам бывала пугающе бледной, словно только что поднялась с постели.
— Она страшно малокровна, — вздыхала матушка.
Потом помню тетю сидящей в кресле в выходном платье и в золотой цепочке, стрекотанье швейной машинки, обрезки материи на полу и за решеткой дождя, более редкой и сквозной, чем все последние дни, часы на рыночной площади, показывающие девять.