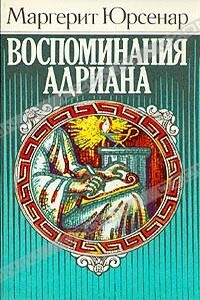Последняя милость | страница 48
Наутро Шопен раньше меня явился на плац, расположенный между станцией и деревенской ригой. Пленных согнали на запасной путь; выглядели они еще более покойниками, чем вчера. Те из наших людей, которые, сменяясь, караулили их, так устали от этого дополнительного наряда, что казались почти такими же изнуренными. Это я предложил подождать до утра; я считал своим долгом хоть что-то сделать для спасения Софи, а в результате только заставил их всех провести еще одну ночь без сна. Софи сидела на поленнице, задумчиво свесив руки между раздвинутыми коленками, каблуками грубых башмаков машинально чертя на земле бороздки. Она беспрерывно курила, только это и выдавало ее волнение, а на щеках от свежего утреннего воздуха играл здоровый румянец. Глаза ее смотрели рассеянно и, казалось, даже не заметили моего присутствия. В противном случае я бы, наверное, завопил. Она все-таки до того походила на брата, что у меня было ощущение, будто он во второй раз умрет на моих глазах.
Роль палача в подобных случаях всегда брал на себя Михаил и вел себя при этом так, словно это было продолжением работы мясника, которую он выполнял для нас в Кратовице, когда изредка случалось резать какую-нибудь скотину. Шопен приказал расстрелять Софи последней; я до сих пор не знаю, хотел ли он этим ужесточить наказание или все же дать одному из нас шанс защитить ее, Михаил начал с малоросса, которого я допрашивал накануне. Софи искоса метнула быстрый взгляд на то, что происходило слева, потом отвернулась с видом женщины, старающейся не видеть непристойности, которую кто-то совершил рядом с нею. Еще четыре или пять раз прозвучал хлопок выстрела, сопровождаемый хрустом разнесенного вдребезги черепа, и мне казалось, что я впервые осознаю весь ужас этого звука. Вдруг Софи незаметно, но властно поманила к себе Михаила жестом хозяйки дома, дающей последние распоряжения прислуге в присутствии гостей. Михаил подошел, ссутулившись, с той же оторопелой покорностью, с какой он готов был через минуту пристрелить се, и Софи тихо произнесла несколько слов, но я не смог их понять по движению ее губ.
— Хорошо, барышня.
Бывший садовник приблизился ко мне и, склонившись к моему уху, сказал угрюмо и с мольбой в голосе, тоном оробевшего старого слуги, который знает, что запросто лишится места, передав такое:
— Они приказали... Барышня просила... Она хочет, чтобы вы сами... Он протягивал мне револьвер; я взял свой, машинально сделал шаг. Преодолевая это расстояние, такое короткое, я успел десять раз повторить себе, что Софи, должно быть, хочет обратиться ко мне с последней просьбой и что приказ ее — лишь предлог, чтобы сделать это тихо. Но она не разжала губ; рассеянным движением стала расстегивать верхние пуговицы куртки, как будто я собирался приставить дуло револьвера прямо к ее сердцу. Должен сказать, что мои немногие мысли были об этом живом и теплом теле, которое в тесной близости нашей жизни бок о бок стало почти так же хорошо знакомо мне, как тело друга; и еще нелепая жалость мучила меня: я жалел о детях, которых эта женщина могла произвести на свет, они унаследовали бы ее мужество и ее глаза. Но не нам заселять грядущие годы, и грядущие окопы тоже. Еще шаг — и я оказался так близко к Софи, что мог бы поцеловать ее в затылок или положить руку на плечо, которое чуть-чуть, почти неуловимо вздрагивало, но я уже видел не ее, а лишь неясные очертания исчезающего профиля, Она дышала чаще обычного, а я цеплялся за мысль, что ведь хотел же я прикончить Конрада и что это одно и то же. Я выстрелил, отвернувшись, — так испуганный ребенок взрывает в новогоднюю ночь петарду. Первая пуля снесла половину лица, и я никогда не узнаю, с каким выражением Софи могла встретить смерть. Я