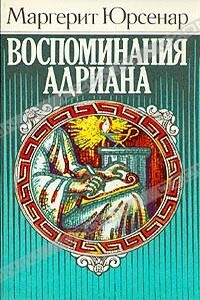Последняя милость | страница 46
— Что же тогда вам нужно?
— Кое-какие разъяснения. Вы знаете, что Григорий Лоев погиб? Она склонила голову, степенно, без скорби. Такой вид бывал у нее в Кратовице, когда ей сообщали о смерти тех из наших товарищей, которые были ей безразличны и дороги одновременно.
— Я виделся с его матерью в Лилиенкорне с месяц назад. Она уверяла меня, что вы выходите замуж за Григория.
— Я? Что за вздор! — воскликнула Софи по-французски, и один лишь звук этой фразы тотчас вернул меня в Кратовице былых времен.
— Однако вы ведь спали с ним?
— Что за вздор! — повторила она. — Это как было с Фолькмаром: вы вообразили, будто мы помолвлены. Вы же знаете, что я всегда рассказывала вам все, — произнесла она со своей спокойной детской простотой. И добавила многозначительно: — Григорий был замечательный человек.
— Я и сам начинаю так думать, — кивнул я. — А тот раненый, о котором вы сейчас позаботились?
— Да, — сказала она. — Мы все-таки остались близкими друзьями, Эрик, ближе, чем я думала, раз вы догадались.
Она в задумчивости сцепила руки, и взгляд ее снова стал неподвижным и туманным — так, словно поверх собеседника смотрят близорукие, а еще такое выражение бывает у людей, погруженных в свои мысли или воспоминания.
— Он был очень хороший. Не знаю, как бы я справилась без него, — проговорила она так, будто твердила заученный слово в слово урок.
— Вам было трудно там?
— Нет. Мне было хорошо.
Я вспомнил, что и мне тоже было хорошо той злосчастной весной. От Софи исходила та безмятежность, которой не отнять до конца у человека, познавшего счастье в его самых простых и самых надежных проявлениях. Нашла ли она такое счастье рядом с этим человеком, или ее спокойствие объяснялось близостью смерти и привычкой к опасности? Как бы то ни было, меня она тогда уже не любила: ее больше не заботило, какое впечатление она на меня произведет.
— А теперь? — спросил я и показал ей на открытую коробку сигарет, лежавшую на столе.
Софи жестом отказалась.
— Теперь? — переспросила она удивленно.
— У вас есть родные в Польше?
— А! — поняла она. — Так вы намерены отвезти меня в Польшу. Конрад тоже этого хочет?
— Конрад умер, — сказал я со всей простотой, на какую был способен.
— Мне очень жаль, Эрик, — мягко промолвила она, как будто эта утрата касалась только меня.
— Вам непременно хочется умереть?
Честные ответы не бывают ни однозначными, ни скорыми. Она размышляла, хмуря брови, и я видел, какие морщины залягут у нее на лбу через двадцать лет. Передо мной колебались чаши незримых весов — так и Лазарь взвешивал все «за» и «против», но, наверное, слишком поздно, когда воскрешение уже свершилось, — и я знал, что на одной чаше лежит страх, на другой — усталость, на одной — отчаяние, на другой — мужество, на одной — сознание того, что уже сделано достаточно, на другой — желание еще сколько-то раз поесть, сколько-то ночей поспать и видеть, проснувшись, как встает рассвет. Добавьте к этому две-три дюжины счастливых или горестных воспоминаний, которые, смотря по характеру, либо удерживают нас, либо толкают в небытие.