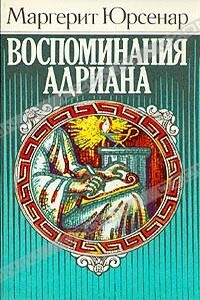Последняя милость | страница 40
ского континента Врангель, сменивший Деникина, готовился подписать позорную Севастопольскую декларацию — примерно так человек визировал бы собственный смертный приговор, — а два победоносных наступления, майское и августовское, на Польском фронте тогда еще не вселили в нас надежды, очень скоро рухнувшей после сентябрьского перемирия и последовавшего заним разгрома в Крыму... Но это тезисное изложение, которым я вас потчую, так сказать, написано после событий, как пишется История, а те несколько недель я прожил настолько свободным от тревог, как если бы мне предстояло умереть завтра или жить вечно. Опасность выявляетхудшее в человеческой душе, но и лучшее тоже. Вот только худшего обычно бывает больше, чем лучшего, так что, если вдуматься, нет ничего омерзительнее атмосферы войны. Но я не хочу из-за этого быть несправедливым по отношению к редким минутам величия, которые она могла подарить. Если атмосфера Кратовице была губительна для микробов низости, то, наверное, лишь потому, что мне посчастливилось жить там рядом с исключительно чистыми душой людьми. Натуры, подобные Конраду, нежны, лучше всего им бывает под защитой брони. Открытые же свету, женщинам, делам, легким успехам, они подвержены подспудному распаду, который всегда напоминал мне тошнотворное увядание ирисов — эти темные цветы, формой подобные наконечнику копья, в своей склизской агонии так непохожи на героически засыхающие розы. Я испытал в жизни почти все низменные чувства, хотя бы по одному разу каждое, так что не могу назвать себя не знающим страха Конраду же боязнь была незнакома совершенно. Бывают такие создания, зачастую самые из всех уязвимые, что вольготно живут в смерти, как в родной стихии. Я часто слышал о подобном свойстве туберкулезников, обреченных уйти из жизни молодыми, но и у юношей, которым суждено было умереть не своей смертью, мне случалось видеть эту легкость — их достоинство и одновременно дар богов.