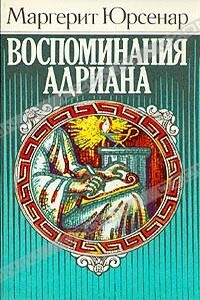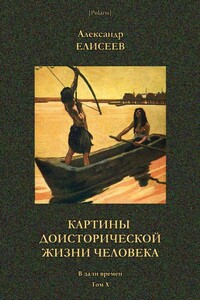Последняя милость | страница 2
История написана от первого лица, в форме монолога главного героя, — этим приемом я часто пользовалась, потому что он не оставляет в книге места точке зрения автора или, по крайней мере, его комментариям, и еще потому, что он позволяет показать человека наедине с собственной жизнью, пытающегося более или менее честно осмыслить ее и, прежде всего, вспомнить. Не будем, однако, забывать, что длинный рассказ из уст главного героя романа, обращенный к сочувственно-безмолвным слушателям, — это все-таки литературная условность: с такой скрупулезной детальностью и логической последовательностью рассказывать о себе может герой в «Крейцеровой сонате» или «Имморалисте», но никак не в жизни: реальная исповедь обычно бывает более отрывочной или, наоборот, перегруженной повторами, более путаной, менее внятной. Разумеется, эти оговорки относятся и к рассказу, который ведет герой «Последней милости» в зале ожидания, обращаясь к слушающим его вполуха попутчикам. Но, приняв эту изначальную условность, во власти автора показать живого человека со всеми достоинствами и недостатками, выраженными его собственными характерными словечками, с его правотой и неправотой, с его предрассудками, о которых он не знает сам, с его откровенной ложью и лживыми откровениями, о чем-то умалчивающего, а что-то даже и забывающего.
Такая литературная форма имеет и свой недостаток: она более, чем любая другая, требует от читателя сотрудничества, вынуждая его домысливать события и людей, которые он видит сквозь «я» героя, как предметы сквозь толщу воды. В большинстве случаев этот прием — рассказ от первого лица — представляет рассказчика в выгодном свете; но в «Последней милости» искажение, неизбежное, когда человек говорит о себе, имеет обратный эффект. Такой человек, как Эрик фон Ломонд, мыслит наперекор самому себе; боязнь впасть в ошибку заставляет его истолковывать свои поступки, если они вызывают сомнение, непременно в худшую сторону; страх перед зависимостью заковывает в броню жестокости, ненужную по-настоящему жестокому человеку; гордыня в нем постоянно мешает гордости. В результате наивный читатель может увидеть в Эрике фон Ломонде садиста, а не человека, решившегося бестрепетно посмотреть в лицо страшным воспоминаниям, бездушного солдафона, забывая, что бездушного солдафона как раз нисколько не терзала бы память о том, как он заставил кого-то страдать, или, скажем, убежденного антисемита, — в то время как этот человек, для которого зубоскальство в адрес евреев является одной из составляющих кастового конформизма, не скрывает своего восхищения мужеством лавочницы-еврейки, а Григория Лоева включает в героический круг погибших друзей и врагов.