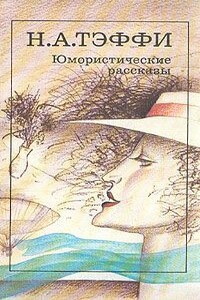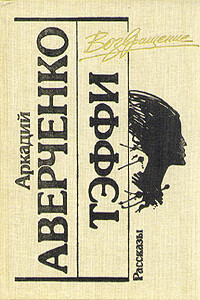Наше житье | страница 15
Женщина остановила грузовик, оглянула своих мертвых, выпрямилась, спокойная, открытая, незащищенная, одна перед направленными на нее дулами ружей, перекрестилась широким русским крестом и повернула ручку пулемета.
Никто не узнавал потом ее имени. И о том, что была такая, теперь уже никто и не вспомнит.
Забыли.
Рассказывают о том, как белые русские войска окружили красных матросов. Часть пленных сдалась — бросилась на колени и подняла руки. Остальные немедленно отошли от них в сторону.
— В чем дело? Чего вы хотите? — спросили у них победители.
— Мы хотим, чтобы нас расстреляли где-нибудь подальше, отдельно от этой сволочи, — отвечали они, указывая на коленопреклоненных товарищей.
Где это было — не помню. Никто не вспомнит.
Забыли.
Мы помним Шарлотту Корде.
Она ближе нам. Она носила белый чепчик и была француженкой, и ее так хорошо полюбили и описали французские писатели.
А наши — они нам не нужны.
Летчик
Вчера в кинематографе показывали какой-то аэроплан, и я вспомнила…
Гриша Петров был славный мальчишка. Здоровенный, коренастый и вечно смеялся.
— Рот до ушей — хоть лягушке пришей, — дразнили его младшие сестры.
Не кончив университета, женился, потом попал на войну.
Боялся он войны ужасно. Всего боялся — ружей, пушек, лошадей, солдат.
— Ну чего ты, Гриша! — успокаивали сестры. — Уж будто так все в тебя непременно стрелять будут.
— Да я не того боюсь!
— А чего же?
— Да я сам стрелять боюсь!
Стали обучать Гришу военному ремеслу. После первого урока верховой езды вернулся он домой такой перепуганный, что даже обедать не мог.
— Все равно, — говорит, — какой тут обед! Все равно придется застрелиться.
— Что же случилось?
— Господи, страсти какие! Взвалили меня на лошадь — ни седла, ни стремян — ничего! Хвоста у нее не поймать — держись за одну гриву. Пока еще на месте стояла — ничего, сидел. А офицер вдруг как щелкнет бичом, да как все заскачут! Рожи бледные, глаза выпучены; зубы лязгают — последний час пришел! А моя кобыла хуже всех. Прыгает козлом, головой машет — кидает меня то на шею, то на зад. Я ей «тпру! тпру!» — не тут-то было. Ну, думаю, все равно пропадать: выбрал минутку, когда она поближе к стенке скакала, ноги подобрал да кубарем с нее на землю. Офицер подскочил, бичом щелкает:
— На лошадь!
Я поднялся.
— Не могу, — говорю.
А он орет:
— Не сметь в строю разговаривать!
А мне уж даже все равно — пусть орет. Так и ему говорю:
— Чего уж тут — я ведь все равно умираю!
Он немножко удивился, посмотрел на меня внимательно.