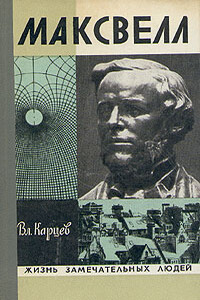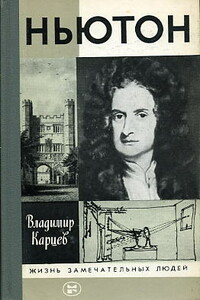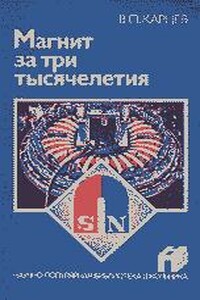Приключение великих уравнений | страница 115
Нам, вооруженным марксистско-ленинской философией, разумеется, нетрудно было бы примирить и тех и других - знание закона отрицания отрицания могло бы обуздать разыгравшиеся страсти. Развитие науки идет по спирали; человечество через определенный срок вновь подходит к, казалось бы, выброшенной на свалку истории теории, но уже овладевшим новыми знаниями, на более высоком уровне понимания процессов. Однако "великим французам" законы марксистской диалектики известны не были, и они свысока, с язвительной иронией относились к фарадеевскому "полю" и "силовым линиям".
Именно в это время двадцатипятилетний Максвелл начинает свою борьбу за фарадеевскую теорию. Все глубже изучает он "Экспериментальные исследования по электричеству", уникальное в истории науки сочинение, своеобразный дневник раздумий гениального ученого.
"Фарадей, - писал Максвелл, - показывает нам свои как неудачные, так и удачные эксперименты, как свои не созревшие идеи, так и идеи разработанные, и читатель, сколько бы ни был ниже его по своей способности индуктивного мышления, чувствует скорей симпатию, чем восхищение, и приходит к искушению поверить в то, что при случае и он сделал бы эти открытия...
Фарадей по профессии не был математиком. В его описаниях мы не находим тех дифференциальных и интегральных уравнений, которые многим кажутся подлинной сущностью точной науки. Откройте труды Пуассона или Ампера, вышедшие до Фарадея, или Вебера и Неймана, которые работали после него, и вы увидите, что каждая страница пестрит формулами, ни одну из которых Фарадей не понял бы".
Но внешняя простота фарадеевского труда была обманчивой. Например, известный немецкий физик Гельмгольц вспоминал, как "часами высиживал, застряв на описании силовых линий, их числа и напряжения".
Вчитываясь в страницы "Экспериментальных исследований", Максвелл прежде всего увидел, что упреки "в нематематичности воззрений" Фарадея были несправедливыми.
"Когда я стал углубляться в изучение работ Фарадея, - писал Максвелл, - я заметил, что метод его понимания тоже математичен, хотя и не представлен в условной форме математических символов. Я также нашел, что метод может быть выражен в обычной математической форме и таким образом может быть сопоставлен с методами признанных математиков".
Режим дня Максвелла непостижим: он спал с пяти до половины десятого вечера. Затем - занятия до двух ночи. С двух до половины третьего гимнастика: беготня по лестницам и коридорам преподавательского общежития (можно представить себе силу возмущения общественности - впрочем, тогда стены были толще). Затем - сон до семи утра. С семи утра - новый рабочий день.