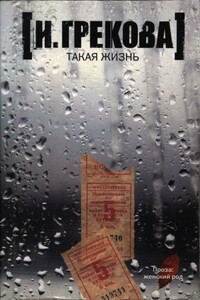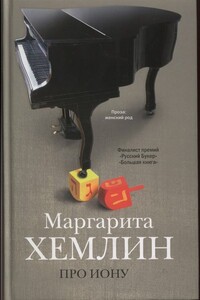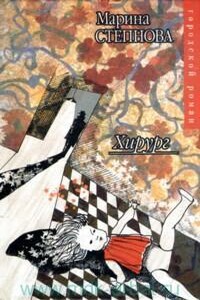Женщины Лазаря | страница 14
— Вот ведь дрянь, — с неожиданной злостью сказала в закрытую дверь медсестра. — Глисты. Как будто котенка с помойки в дом притащила.
Заблеванная «Волга», которую Галина Петровна оставила у будки охраны, ждала их — раскалившаяся на солнце, но тщательно вычищенная внутри. Это расстарался охранник, веселый толстый дядька, приставленный оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому не интересными язвами и гайморитами. Ишь ты, укачало тебя как, козявка, — посочувствовал дядька Лидочке и сунул ей в вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая, подавленная новой встречей с «Волгой» и загадочным словом «глисты», послушно пробормотала спасибо — извлеченное из навеки набитых мамочкой педагогических закромов.
— ЛазарЁсича внучечка? — бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из-под ласкающей руки и взамен сунула дядьке заработанный трояк — чтоб заткнул рот и не фамильярничал.
Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном нутре, среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты.
— А кто это — ЛазарЁсич? — спросила она, стараясь дышать ртом и не шевелиться, чтобы не растревожить вновь завозившийся внутри живой рвотный комок.
Галина Петровна чуть-чуть приподняла брови и взглянула на Лидочку с неожиданным уважением — как на очень взрослого и очень смелого человека.
— Лазарь Иосифович Линдт, академик, — медленно, непонятно и чуть нараспев сказала она, и это было не объяснение пятилетнему ребенку, конечно, да и вообще — не объяснение, а так — не то заговор, убивающий память, не то молитва, заклинающая демонов. Лидочка непонимающе приоткрыла рот. — Твой дедушка.
Глава вторая
Маруся
Он появился в Москве ниоткуда, словно был воплощен Богом сразу на пороге второго МГУ, — хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года. Услужливое воображение наверняка уже разложило перед вами веер смуглых от времени мрачных дагерротипов: холод, голод, разруха, оголтелое людоедство, ужас, братоубийство, тиф.
Однако на деле в Москве все обстояло не так уж плохо. С марта восемнадцатого года она вновь была объявлена столицей — правда, не очень ясно, какого именно государства, но зато торопливый переезд правительства из Петрограда гарантировал отсутствие на улицах пирующего на трупах воронья. В театр имени Комиссаржевской на аристофановскую «Лисистрату» валила отнюдь не опухшая с голоду публика, футбольная команда «Замоскворецкого клуба спорта» выиграла первенство города, а на теннисных кортах «Петровки» царил Всеволод Вербицкий, актер МХАТа, душка, красавчик, взявший в том же восемнадцатом году первое место на первом теннисном чемпионате революционной Москвы. В моду — с легкой руки Свердлова — входили приятно поскрипывающие кожанки для обоих полов, добыть с рук можно было все что угодно, и скуластые брюнетки все так же играли глазами и коленками, как в прежние, мирные и, пожалуй, даже скучноватые времена. Перебои с продуктами, близость немцев и толпы более или менее пьяной солдатни не казались несомненными предвестниками Апокалипсиса. Скорее уж — это были неизбежные издержки великого перелома: что-то, связанное столь же досадно и тесно, как прелестный дачный вечер и комары, влюбленность и женитьба, Масленица и жирная, уютно свернувшаяся за грудиной изжога.