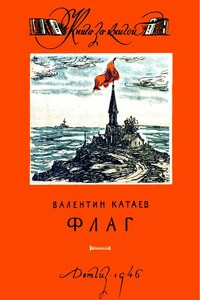Том 2. Горох в стенку. Остров Эрендорф | страница 85
…С креслами потрясающей мягкости. С довольно голыми девками в шляпах со страусовыми перьями. С коктейлями. С сигарами, с джаз-бандом. С коврами. С мраморными лестницами. С кафельными клозе…
Впрочем, о кафельных клозетах я уже тоже говорил.
Одним словом, Берлин веселится.
В один прекрасный берлинский субботний вечер мы решили на собственной шкуре испытать все прелести вышеупомянутого веселья.
Так сказать, решили испить до дна загадочный и темный для наших грубых советских понятий кубок буржуазного разложения[1].
Тем более что наш немецкий друг сказал:
— Вы, большевики, не умеете веселиться. Пойдемте, и я покажу вам, как легко и мило проводит свой еженедельный отдых честный берлинский буржуа. Море удовольствий… Шампанское смеха… Фокстрот… Чарльстон… Джаз-банд…
— Кафельные клозеты и отделения для собачек, — деловито подсказал я.
— Откуда вы знаете? — удивился немец.
— Да уж знаю, — загадочно ответил я. — Мы, большевики, народ наблюдательный. Впрочем, если разлагаться, так уж разлагаться на все сто процентов! Валяйте везите нас разлагаться.
И мы поехали разлагаться.
Вот краткое, но исчерпывающее описание нашего разложения.
От восьми до десяти — кино на одной из лучших берлинских улиц.
Умопомрачительная позолота. Мальчик-бой, усыпанный пуговицами, как клопами, мраморные нимфы. Кафельные клозеты, отделения для собачек… Смотри выше.
Сеанс короткометражных комедий. Море смеха, океан веселья!
Мы уселись в креслах сверхъестественной мягкости и, осторожно расстегнув пуговицы жилетов, приготовились рыдать от смеха.
Бархатный занавес раздвинулся, смуглый, жемчужно-золотой свет пышных люстр и бра погас, и на поблескивающем голубоватым алюминием экране началось веселье.
Сначала какой-то трехлетний негодяй в продолжение трех частей бил тарелки и выливал ночные горшки на головы своих престарелых родителей (в зале одобрительный смех).
Затем в продолжение двух частей по фешенебельному экрану ездил на кривом велосипеде меланхоличный дядя со следами развратной жизни на интеллигентном среднеевропейском лице. Он въезжал в посудные магазины, руша на своем пути горы тарелок, он падал с высокого моста на палубу увеселительного парохода, игриво выбивая глаза и зубы у забавных пассажиров. Он попадал под поезд — поезд рушился. Он давил старух и детей (в зале мощные раскаты жизнерадостного смеха).
Когда же после велосипедиста на экране снова появился трехлетний ублюдок и начал в новом варианте крушить ночные горшки, публика повалилась на спинки сверхъестественной мягкости кресел, не в силах более сдерживать гомерический смех.