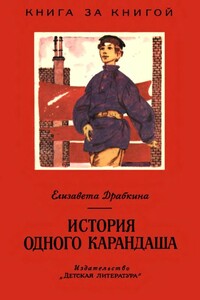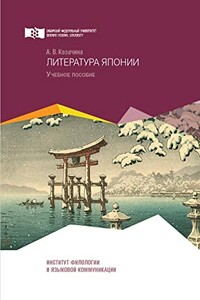Кастальский ключ | страница 42
«На бал явился цареубийца Скарятин», — записал в 1833 году в своем дневнике Пушкин. И вслед за этим: «Великий князь говорил множество каламбуров».
«Великий князь» — это Михаил Павлович, сын Павла. В присутствии убийцы своего отца он рассыпается в каламбурах. Это никого не удивляет: тут все переплетены круговой порукой убийств, все в родстве, свойстве, танцуют вместе на балах, крестят друг у друга детей, вперекрест женятся, празднуют свадьбы и дни рождений, присутствуют на похоронах и отпеваниях, вперекрест убивают.
Будто кто-то раскладывает какой-то чудовищный пасьянс, в котором то направо, то налево ложатся одни и те же карты: цареубийца Скарятин; Сухозанет, открывший 14 декабря 1825 года картечный огонь по Сенатской площади, — брат этого Сухозанета женат на дочери Яшвиля, также одного из убийц Павла I; мерзкие, злобные бабы вроде графини Нессельроде; низменный Долгоруков; палачи и душители.
В начале 1834 года в этот синклит убийц полноправно вступают Жорж Дантес и его покровитель барон Геккерн.
Но не сгущаю ли я краски?
Проверим это свидетельствами современников эпохи, о которой идет речь, — французского маркиза и фрейлины императорского двора.
Французский маркиз — маркиз де Кюстин, совершивший в 1839 году путешествие по России. Его беспристрастность вне сомнений. «Я ехал в Россию искать аргументы против представительного образа правления, — пишет он в своей книге, — и возвращаюсь оттуда привереженцем конституции».
В Петербурге его поражают пустынные утренние улицы, по которым в разных направлениях снуют курьеры и мчатся фельдъегери, напоминающие «шахматные фигурки, движущиеся по воле одного человека, который ведет игру с невидимым противником — человечеством».
За год перед тем Зимний дворец был охвачен пожаром. Николай I повелел реставрировать его, причем к определенному сроку. Работало по шесть тысяч человек в день, при морозе в 25 градусов. Залы дворца натапливали для просушки до плюс 30 градусов. «При таких условиях смертность среди рабочих была ужасающая», — замечает де Кюстин и вступает в полемику с теми, кто оправдывает подобные методы работы.
В первый же день пребывания в Петербурге де Кюстин посетил Петропавловскую крепость. Его пустили только в собор, но не в тюрьмы. «В каждом звуке, — пишет он, — мне слышалась жалоба, камни стонали у меня под ногами. Если судить о жизни русских, заключенных под землей, по жизни русских, которые гуляют по ней, можно содрогнуться».