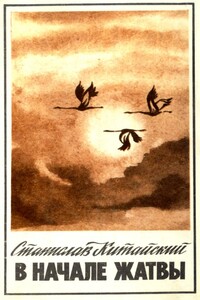В начале жатвы | страница 37
«Ну, так отдаешь мне избу?» — спрашивает Колюхов.
«Плевать я на твою избу не хотел! — говорит ему Филиппушка. — Гори она огнем, только руки погрею. Тюрьма это — не изба. Вой как душит она человека. Не нужна она мне. Только и тебе не достанется — сожгу!»
Колюхов достает наган и медленно стреляет в Филиппушку: тых-ты-ты-ты!
Филиппушка вздрагивает, открывает глаза: трубка упала на пол. Чтоб ты сдурел! — ругается он. — Чуть заснул человек, этому гаду присниться надо! Теперь черта два опять заснешь... Вот сволочь!
Он встает, поднимает трубку, выключает свет и снова ложится. Ждет, когда теплая сонная волна опять захлестнет сознание, но она не приходит. Как ни ложится Филиппушка, как ни устраивается — все неудобно: то руки мешают, деть их некуда, то шея терпнет. По всему телу ходят противные токи, тошнотворные, изнуряющие. Кругло ноют суставы. И слабость — шевельнуться неохота, как отнялось все. А сон к глазам не идет.
Звенит в избе тишина. Чужая тишина в чужой избе.
Вот как это получается? — жил здесь Филиппушка столько лет и никогда, со дня, как поселился, до сегодня, не приходило ему и в голову, что изба чужая, а тут вдруг разом обернулась не своей? Вроде как на квартире живешь, и каждая плаха на потолке, каждое бревно, половицы, окна, темные углы — все сберегает частицу первого хозяина и немо попрекает тебя им.
Надо было уничтожать их, а не высылать, — думает Филиппушка, — больше толку было бы. Душу не бередили бы теперь...
В памяти Фшшипушки невольно оживают картины времен коллективизации; короткие, смутные, они торопятся сменить друг дружку, и голова не успевает сообразить — имеет эта картина свой серьезный смысл или она так себе, и если не имеет, то почему вспомнилась. Вот неметеные комнаты кузнецовского дома — тут понятно: штаб по раскулачиванию размещался, там с утра до поздних петухов в гаме, в табачном чаду, вперемешку с анекдотами и скандалами выносились решения, кого на соловки, кого нет. Забылись слова, забылись крики, остались только лица былых товарищей и то радостное, решительное настроение разрушить остатки подлого собственнического мира, что рождалось после обсуждения директив и разнарядок. А вот это к чему: желтенный снег за углом, где штабисты спешно справляли малую нужду, испорченные предвесеньем дороги, издохший с голодухи пес в опустевшей кулацкой ограде? — ерунда какая-то.
Филиппушка ворочается на неуютной своей постели, костерит про себя и бессонницу, и ослабевшую память, и пуще всего Колюхова. Даже не его, а нечто всевраждебное, огромное, в центре чего Колюхов не больше спички, не позволяющее ни забыться, ни помечтать.