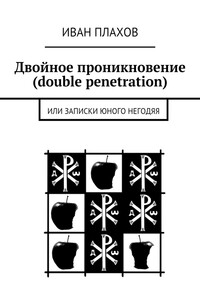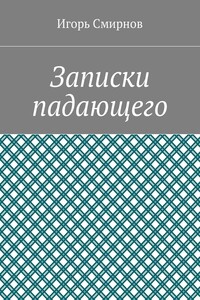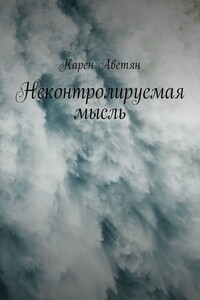Незамеченное поколение | страница 92
Он пишет:
«Но любовь к Богу и людям, любовь к правде и добру выводят нас на борьбу со злом в человеческом обществе; грубая ошибка думать, что только личное зло должно возмущать христианина; равнодушие ко злу в общественной и мировой жизни и в культуре есть начало расслабления и разложения христианского общества. Путь общественной борьбы почти всегда приводит к необходимости жертвы, страданий, возможно к смерти. Если мы любим Бога и людей, добро и истину, мы должны быть готовы к испытаниям. Когда мы малодушествуем, мы не избавляемся от страданий, так как совесть обличает нас и мы внутренне надламываемся… Борьба со злом ограничивает его; но даже если она не дает сразу плодов, она во всяком случае разделяет добро от зла и показывает силу добра, хотя бы в мученичестве. Поскольку мы чувствуем себя ST новными перед Богом и людьми, наша жертва ради них приобретает искупительное значение».
К сожалению, кроме статьи Верховского, трудно найти в печати какие-либо другие высказывания, которые бы отражали общественные взгляды нового поколения богословов. В книге прот. А. Шмемана «Исторический путь православия»[38] мы находим, только косвенное, правда, но чрезвычайно важное, решающее и ответственное признание христианскими тех начал, которые Алданов предложил назвать «субстанцией» демократии. Излагая историю «Миланского Эдикта», прот. А. Шмеман говорит:
«О смысле Миланского решения велись жаркие споры среди историков. Что означала эта религиозная свобода? Если, провозглашая ее, Константин вдохновлялся христианской идеей независимости религиозного убеждения от государства, то почему просуществовала она так недолго, так быстро уступила место безраздельной и принудительной монополии Христианства, навеки уничтожившей всякую религиозную свободу? Ответ может быть только один: свобода Константина не была христианской свободой. Понадобились столетия, чтобы то новое понимание личности, которое всеми своими корнями вырастает из Евангелия, проросло постепенно и в новое понимание государства, ограничило его неотъемлемыми правами этой личности. Мы знаем теперь, сколь мучительным оказался этот процесс, знаем, увы, и то, что сами христиане далеко не всегда были в нем носителями именно христианской, евангельской истины. Не состоит ли трагедия новой истории, прежде всего в том, что самая христианская из всех идей нашего мира, идея абсолютной ценности человеческой личности, исторически оказалась выдвинутой и защищаемой против церковного общества, роковым символом борьбы против Церкви? А случилось это как раз потому, что с самого начала сознание христиан заворожено было обращением Константина: оно то и помешало Церкви пересмотреть в евангельском свете теократический абсолютизм античной государственности, а, напротив, его самого слишком надолго сделало неотъемлемой частью христианского восприятия мира».