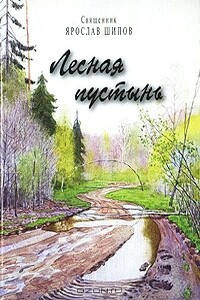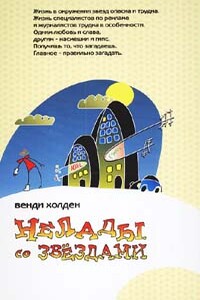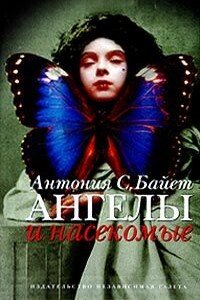Незамеченное поколение | страница 9
Обвинения против интеллигенции выдвигались не только правыми и черносотенцами, но и людьми, принадлежавшими прежде к тем умеренно либеральным кругам образованного русского общества, которые в управлении, в судах, в земстве, в школе и во всех либеральных профессиях вели в России всю созидательную культурную работу. Начавшийся еще прежде отход этих кругов от идеалов радикальной интеллигенции был ускорен разочарованием в революции, со всеми своими требованиями конституции и гарантий неприкосновенности личности, приведшей не к установлению государственного строя вроде английского, а к победе большевиков.
Этому отходу способствовал и рост религиозных настроений. Русское религиозно-философское возрождение начала века продолжалось в эмиграции, приобретя здесь, может быть, даже большую способность вербовать души людей. Измученным бездомным изгнанникам, видевшим гибель всего дорогого, всего составлявшего смысл жизни, нужна была опора в чем-то большем, чем смерть, и они обращались к православной церкви, как к вечной и неразрушимой святыне потерянной страны отцов.
Материалистические идеи интеллигенции отталкивали этих людей не только сами по себе, но еще больше из-за тех страшных последствий, к каким привела пропаганда этих идей среди темного малограмотного народа. Интеллигенция, конечно, не хотела всех ужасов большевизма и, тем не менее, несет за них ответственность, так как своею проповедью материализма и безбожья разрушила религиозную веру, на которой держались все нравственные убеждения народа. В этом разрушении идеала «Святой Руси» видели объяснение чудовищности преступлений, совершенных народом в революции.
Но главное — остатки радикальной интеллигенции не имели в эмиграции поддержки учащейся молодежи, героизмом и энтузиазмом которой всегда держался весь пафос Освободительного движения. Уход молодежи из «ордена» начался, когда гражданская война калейдоскопически все переставила на сцене русской исторической драмы и по-новому распределила роли… «Правое» перестало быть символом зла, реакции и деспотизма. По сравнению с большевистским террором старый режим стал казаться царством свободы, права и человечности. «Левое» же соединялось теперь с горечью воспоминаний о проявившейся в революции исторической несостоятельности интеллигенции, доведшей до того, что большевики смогли захватить власть. Когда же на окраинах началась вооруженная борьба, часть демократической интеллигенции все еще пыталась «сосуществовать» с советской системой, выдвинув формулу «ни Ленин, ни Колчак». «Орден» больше не был окружен славой героической освободительной борьбы. Эта слава перешла к Белому движению.