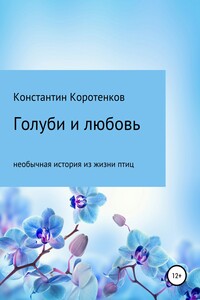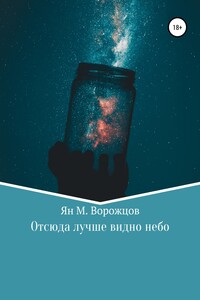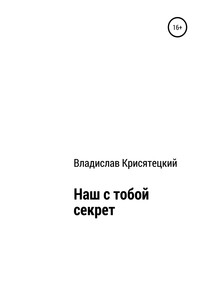Незамеченное поколение | страница 79
Чудовищное допущение, что может быть какое-то недоброе добро, добро не от Бога, а от Антихриста, совершенно заслонив настоящую, оригинальную и творческую мысль Соловьева, легко воспринималось эмигрантской молодежью, и без того захваченной реакцией против интеллигентских идеалов, приведших, по мнению многих, к ужасам революции и гибели России.
Нужно помнить об этих настроениях, чтобы понять, какое впечатление должно было произвести «Крушение кумиров» Франка. Ведь он еще в «Вехах», вместе с П. Б. Струве, доказывал невозможность «реабилитации с христианской точки зрения» добродетелей не верящих в Бога подвижников ордена русской интеллигенции.
Но в отличие от многих других эмигрантских обличителей интеллигенции, Франк, не будучи демагогом, не боялся делать из своего осуждения ордена выводы, которые вряд ли могли нравиться большинству его молодых слушателей.
Мы видели, что все политические движения эмигрантской молодежи поднялись на идейной закваске, прямо противоположной интеллигентскому просветительству, и в то же время в известной степени были продолжением ордена, со всеми его достоинствами и недостатками, с его героической моралью и с обязательной верой в какое-либо «целостное» миросозерцание. Так солидаристы, устраивая свою боевую организацию, вдохновлялись примером народовольцев и эсеров.
В этой проповеди героического активизма Франк видел все ту же интеллигентскую веру в политический кумир, все то же опьянение революционным дурманом, только «с обратным содержанием». Он говорил:
«Мы склонны с презрением или в лучшем случае с улыбкой снисходительной иронии вспоминать этот недавний деспотизм общественного мнения. Напрасно. Ибо в нем ничего не изменилось, кроме содержания и названия кумиров, которым приносят эти человеческие жертвы. С тем же фарисейским самодовольством, с тем же жестоким и холодным невниманием к живой человеческой личности травят в настоящее время людей, живая душа которых не может улечься в трафареты «контрреволюционного» общественного долга. И опять идет проповедь общественного героизма, как священного и потому морально-принудительного долга всякой личности, вне которого ей нет признания».
Франк осуждал, таким образом, не только идейное содержание, но и самую «форму» морали русской интеллигенции. П. Струве, И. Ильин и большинство движенческой молодежи не были столь последовательны: героическую орденскую мораль они обличали только покуда она была связана с интеллигентским миросозерцанием, с тех же пор как она соединилась с национализмом, они видели одну ее доблестную, рыцарскую сторону. Но некоторая часть молодежи, вероятно, шла за Франком до конца. Во всяком случае настоящее расхождение было не с ним, а с теми «отцами», которые, по мнению молодежи, понимали идею оцерковления жизни слишком в духе старых интеллигентских чаяний радикального преображения всех социальных отношений.