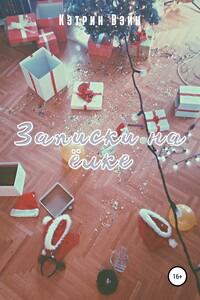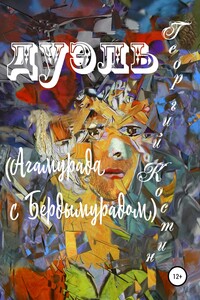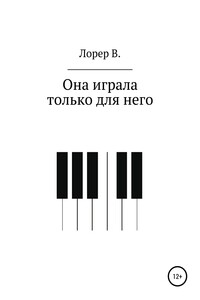Незамеченное поколение | страница 74
Источники модернизма не избыток, а бедность и неутвержденность благодатной жизни, неумение ее смиренно принять. Это есть явление не творчества, а ущербленности, церковной некультурности и провинциализма. Непонимание этого, неумение распознать дух этого направления есть явление отрицательное, свидетельствующее об утрате Духа православного и о неправильном пути».
Но и значительная часть молодежи, оставшейся в движении, думала так же, как белградские братчики. Слова Н. Бердяева, что церковь должна будет по-новому определить свое отношение к миру и к совершающимся в мире процессам и что новый строй возникает в православии, — казались подозрительными.
В «Вестнике» (№ 1, 1927) К. Струве спрашивает: «Что это за новая эпоха, что это за новый стийь? За этими фразами должно стоять какое-то конкретное содержание, иначе они превращаются в пустые слова, слишком напоминающие собою Живоцерковный язык… Чуждо и непонятно нам это ощущение новой эпохи и нового стиля».
С самого начала в отношениях между движенческими «отцами» и «детьми» не все было благополучно. И старшие, и младшие участники Движения одинаково видели в катастрофе революции возмездие за дехристианизацию культуры и были единодушны в обращении к религии, как к единственному источнику нравственных сил, необходимых, чтобы продолжать жить и действовать. Так возникла выдвинутая уже на первом съезде в Пшерове идея «оцерковления» жизни. Но если все были согласны с этой идеей, то в толковании ее очень скоро сказалась вся противоположность духовных устремлений отцов и детей, разделенных не только возрастом, но и разным воспитанием, разным жизненным опытом.
В Движении участвовали почти все оказавшиеся в эмиграции представители русского религиозно-философского возрождения начала века: о. С. Булгаков, Н. А. Бердяев, А. В. Карташов, Н. И. Новгородцев, В. В. Зеньковский, С. А. Франк, П. Б. Струве, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, Г. П. Федотов, К. В. Мочульский, Н. Арсеньев и Ф. А. Степун. Почти все они в молодости принадлежали к «ордену русской интеллигенции» и многие из них и после религиозного обращения оставались орденскими людьми, сохранившими весь реформаторский орденский энтузиазм. Это именно ими была выдвинута идея о необходимости нового миросозерцания, проникнутого духом Православия и в то же время, по примеру миросозерцания «ордена», соединенного с замыслом всеохватывающей моральной и социальной реформы.
«Природа, история, хозяйство, профессиональная жизнь, социальный вопрос, наука и искусство — все это принадлежит Христу, все это должно быть видами церковного служения», — писал в Вестнике С. Булгаков, выражая убеждение большинства старших участников Движения, что Православие не может пониматься только как религия храмового благочестия и личного спасения души, а должно быть направлено на творческое преображение жизни и на поиски ответов на все грозные и трагические вопросы, поставленные перед человечеством кризисом современной цивилизации.