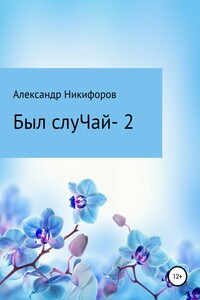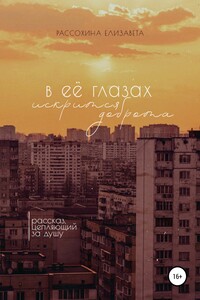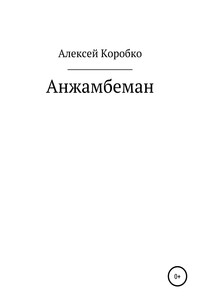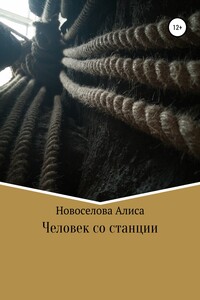Незамеченное поколение | страница 64
Не случись война так скоро, в НТС произошли бы дальнейший прогресс и излечение от заблуждений. Но грянула война, и многие новые вопросы встали перед НТС, в частности, разработка подробной программы. В трудных условиях Берлинского подполья не все было сделано удачно. Но все же и тогда продолжался откат от навеянных фашизмом схем. Так, по докладу Л. Л. Зальцберга в социально-экономическом семинаре, мне пришлось участвовать в единогласном отклонении двух подлинно-тоталитаристических положений, никак в сравнение с оптимализмом не идущих: а) однопартийности в государстве и б) так называемой «единой трудовой организации нации», по существу мало чем отличавшейся от советской системы профсоюзов».
Отрицает фашистский характер солидаризма и Юрий Слепухин. И Прянишников и Слепухин, идеализируя прошлое НТС, оба обвиняют теперешнее руководство: первый — в уклоне к тоталитаризму, второй — в отказе от «целостного миросозерцания». Образовалось, повидимому, несколько групп, каждая из которых претендует представлять подлинный солидаризм.
Человеку со стороны, не знакомому с внутренней обстановкой в НТС, разобраться в этом споре совершенно невозможно. Объективность, однако, требует отметить, что развернувшееся в «Посеве» обсуждение программы не дает никаких оснований говорить о каком-либо формальном отказе от принятых демократических положений. Наоборот, в споре о «яде партийности», именно А. Артемов, обвиняемый оппозицией в «тоталитаристических взглядах», занимает позицию, несравненно более демократическую, чем покойный проф. И. Ильин, чьи взгляды, по признанию самой редакции, «в свое время отложили большой отпечаток на идеологию НТС».
В номере «Посева» от 27 марта 1955 года Артемов пишет:
«Мы отвергаем диктатуру и рабство. Мы избрали свободу и боремся за свободу. Мы хотим быть свободными в своих политических убеждениях, в праве на объединение со своими политическими единомышленниками, на организованную борьбу за свои политические убеждения. Тогда, естественно, мы уклоняемся не только от однопартийности, но и от беспартийности; мы вступаем на путь, логически приводящий к возникновению и деятельности различных политических организаций, т. е. партий…
Партии приносят с собой, наряду с благами, присущие им вредные явления. Прежде всего — так называемый «яд партийности»…
Однако, надо выбирать. И в своем принципиальном выборе мы принимаем пороки демократии (в том числе и яд партийности) за зло меньшее, чем мертвящее рабство при диктатуре».