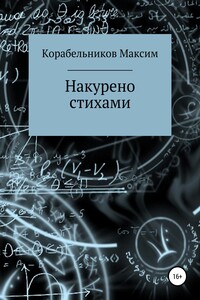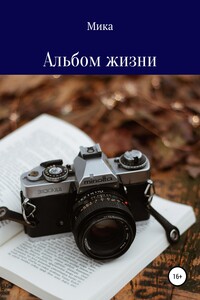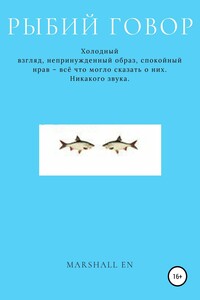Незамеченное поколение | страница 176
Дворянство умерло, но интеллигенция в революционном застенке осуществила то единение с народом, к которому прежде так безнадежно стремилась.
И те остатки ее, которые переживут лихолетие, должны быть бережно хранимы нацией, ибо в них не угас Прометеев огонь свободной культуры».
Г. П. Федотов в своей прекрасной, глубокой и волнующей статье «И. И. Фондаминский в эмиграции» высказывает мнение, что из попытки Фондаминского втянуть Монпарнасс в творческую общественную деятельность ничего не вышло. «Он пробовал отобрать в «Круге» маленькую группку людей, разделяющих идеи «Нового града» и готовых работать для них, но с самого начала в ядре будущего ордена не оказалось единства. Когда грянула война, группа разбрелась в разные стороны».
Это утверждение Федотова мне представляется неверным и несправедливым. Маленькая группа людей, отобранная Фондаминским в «Круге», в соединении с группой «Русского временника» могла бы стать средоточием для объединения эмигрантских молодых людей, веривших в правду демократии. Но было уже поздно — началась война. Все, годные к службе в строю участники этого «ядра будущего ордена», пошли во французскую армию. Во время немецкой оккупации героической и мученической смертью погибли: сам И. И. Фондаминский, мать Мария и Борис Вильде, о котором Г. П. Федотов даже не упомянул в своей статье. Между тем смерть Вильде так убедительно свидетельствует, что Фондаминский достиг своей цели — сумел передать эмигрантским сыновьям мистическое вдохновение орденского жертвенного подвижничества. В созданной им маленькой зачаточной ячейке нового ордена произошло, как в некоей волшебной реторте, чудо восстановления оборвавшегося преемства. Фондаминский — представитель «отцов»; мать Мария — представительница «литературного поколения, получившего зарядку в старой писательской среде Петербурга» (в этой среде мать Мария, в миру Е. Ю. Скобцова, по первому мужу Кузьмина-Караваева, была известна, как декадентская поэтесса, автор «Глиняных черепков»); Б. Вильде — представитель младшего «денационализованного» эмигрантского поколения. Все трое умерли одинаково, как умирали всегда лучшие орденские люди, и эти три смерти говорят: «отрыв» был только на поверхности, а когда пришло настоящее испытание, эмигрантские сыновья, даже перешедшие с русского языка «на подобие арго», оказались на деле такими же хорошими «русскими мальчиками», какими, начиная с декабристов, были все старшие их братья.