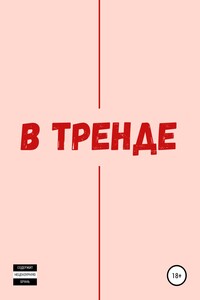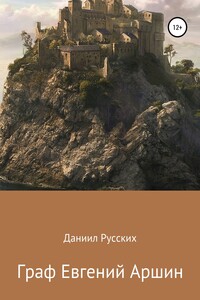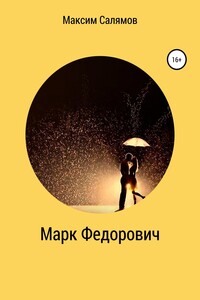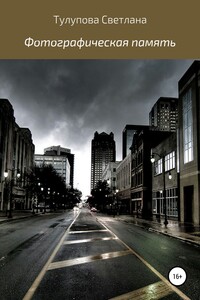Незамеченное поколение | страница 159
«Русский атеизм, — писал Булгаков, — отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, тяжелым шагом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры только наизнанку и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы. Эта вера берет в основу ряд некритических, непроверенных утверждений, именно, что наука компетентна окончательно разрешить и вопросы религии и притом разрешить их только в отрицательном смысле, к этому присоединяется также подозрительное отношение к философии, особенно к метафизике, уже заранее отвергнутой и осужденной».
Булгаков вряд ли преувеличивал. Этот поверхностный атеизм «отцов» производил на сыновей, особенно при сравнении с их собственным мучительным внутренним опытом, странное впечатление невзрослости и чего-то несовместимого со всеми представлениями о человеческой жизни, вложенными в душу великой русской литературой.
Таким образом, хотя встреча с идеалом демократии и смутное ощущение глубинного мистического вдохновения «ордена» влекли к представителям демократической интеллигенции, останавливало недоумение перед их миросозерцанием, а также, впрочем, и их нетерпимость, высокомерная раздражительность в спорах, взаимные распри и начетническая уверенность в своей непогрешимости, придававшая некоторым из них неожиданное сходство с толстовским генералом Пфулем.
Это двойственное, смешанное чувство притяжения и отталкивания, испытываемое многими «сыновьями» к «отцам» по «ордену русской интеллигенциии», со свойственной ему резкостью, но очень точно выразил П. С. Воронецкий:
«В этом и состоял парадокс нашей интеллигенции, которая, будучи совершенно феноменальным по своему общественному героизму явлением во всей истории общественных движений, в то же время исповедывала самое заскорузлое низменное позитивистически-материалистическое миросозерцание».
Но такие же противоречивые чувства вызывали и идеи другого лагеря. Опыт Монпарнасса повторял в известной степени опыт И. Киреевского и Ю. Самарина, «открывших» внутреннюю жизнь. Поэтому, в «религирзной войне» русской интеллигенции «сыновья» должны были бы сочувствовать наследникам славянофильства. Но именно дорога внутренней жизни вела их, как мы видели, к грани, откуда становился виден идеал демократии во всем его первоначальном значении евангельского утверждения личности, свободы, равенства и братства, и их отталкивали последовательные метаморфозы славянофильства: черное русское направление, евразийство с его «симфоническими личностями», национал-большевики и «Новое средневековье». Здесь отсутствие прямого культурного преемства оказалось для сыновей спасительным. Невежество в истории русского общественного развития предохранило их сознание от парадоксальной идейной непоследовательности, характерной для обоих лагерей русской интеллигенции, из которых один, отрицая реальность свободы и личности, боролся за политические свободы и личные права, а другой, утверждая духовную свободу, отрицал свободу правовую, как бессодержательную, формальную и мнимую. От правого лагеря отталкивал, к тому же, и всегда присущий всему правому дух человеконенавистничества, несовместимый с неясными монпарнасскими мечтаниями о братстве всех людей. Все это привело к тому, что зарождавшаяся на Монпарнассе «идея», сочетая без всякой предвзятости элементы двух враждующих между собой «вер», тем самым была каждой из них одновременно и близка и враждебна. Разговор был возможен, несмотря на совсем другой интеллектуальный и душевный опыт, только с новоградцами, принимавшими правду обоих лагерей. И действительно, незадолго до войны, благодаря главным образом усилиям И. И. Фондаминского, начали налаживаться встречи и разговоры. Правда, в начале с обеих сторон преобладало чувство взаимной отчужденности — уж слишком непохожие друг на друга были люди.