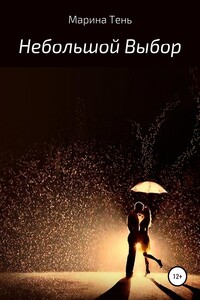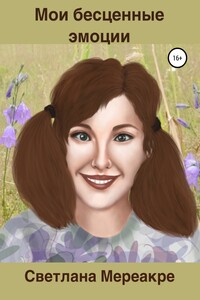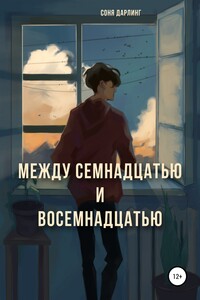Незамеченное поколение | страница 141
Как я уже упоминал, «Повесть об антихристе» была воспринята в стане «охранителей», как отказ Соловьева от всех этих завиральных прогрессивных идей — Соловьев «поверил в чорта» и «покаялся». Оставляя в стороне спорный вопрос, насколько правильно было подобное толкование, нужно признать, что необыкновенный успех этой злополучной «гениальной» повести очень помешал делу пропаганды основной Соловьевской идеи, что правильно понятое христианство с его заповедью любви и утверждением абсолютной ценности личности не только не требует отказа от прогрессивного общественного идеала свободы, равенства и братства, но, наоборот, ставил этот идеал перед человеческой совестью с силой мистического «категорического императива». К счастью, несмотря на вред, причиненный «раскаяньем» Соловьева, эта идея и связанные с нею поиски нового миросозерцания, в котором бы соединялись положительные начала и славянофильства и западничества не были оставлены. О социальной реформе в духе идей Соловьева мечтал основатель союза «Христианской борьбы», П. А. Флоренский, правда, впоследствии отошедший от увлечения «радикальным» христианством. В 1903 г. в «Вопросах философии и психологии» С. Булгаков в большой статье, посвященной Соловьеву, решительно выступил в защиту соловьевского плана примирения правды религиозного сознания с правдой освободительного политического и социального движения. Свою статью С. Булгаков заканчивал страстным призывом покончить с «недоразумением».
«Довершив свое окончательное преобразование, реформированное славянофильство или, лучше сказать, национальный универсализм окажется способным сделаться знаменем и вероисповеданием прогрессивных элементов нашего общества, а вместе утолить их философскую и религиозную жажду; шаткие основы позитивного миросозерцания западничества, привлекательного теперь в силу связанных с ним прогрессивных общественных стремлений, быстро утратят свою обаятельность, раз только станет ясно, что переход к новому миросозерцанию не обязывает отказываться от прогрессивных стремлений, и основное историческое недоразумение русской жизни будет исчерпано и исчезнет. И сие буди, буди!..»
Призыв Булгакова не был услышан. Всякий возврат к религии воспринимался радикальным общественным мнением как измена идеалам русской интеллигенции, как предательство движения к свободе, просвещению и прогрессу. Эпигоны же славянофильства докатились кто до обыкновенного черносотенства, кто до «Нового средневековья», евразийства и национал-большевизма. Но идея Соловьева и Булгакова о синтезе двух традиций все-таки не погибла окончательно. Творческие усилия в этом направлении продолжались. В 1931 г. в Париже начал выходить журнал «Новый град», созданной И. И. Фондаминским-Бунаковым, Ф. А. Степуном и Г. П. Федотовым, при участии самого Булгакова, тогда уже протоиерея и ректора Свято-Сергиевской Духовной академии в Париже. К «Новому граду» я еще вернусь в следующей главе. Пока же необходимо только уяснить на чем основывал Булгаков свою надежду на возможность примирения между двумя столь противоположными, исключающими друг друга символами веры.