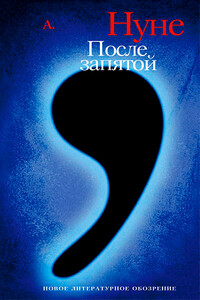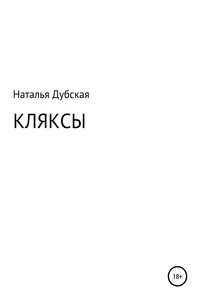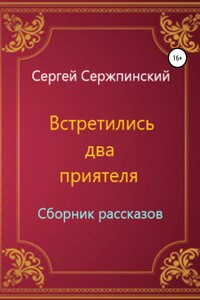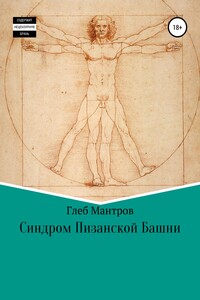Незамеченное поколение | страница 132
Так открытие реальности внутренней жизни вело «Монпарнасе» к открытию евангельского утверждения абсолютной ценности человеческой личности, и основанного на этом утверждения демократического идеала свободы, равенства и братства.
В отличие от прежних интеллигентов у монпарнасских завсегдатаев не было чувства вины перед народом. Сами были беднее любого пролетария. И все-таки было какое-то смущающее совесть беспокойство — пока они жили в стороне от человеческих дел (правда, скорее, как в камере одиночного заключения, чем на башне из слоновой кости), в мире не все шло благополучно. Все неотвратимее надвигалась катастрофа, несшая миллионам людей страдания и смерть. Именно об этом говорили на упадочном «антисоциальном» Монпарнассе, об этом и о судьбе человеческого рода вообще, о справедливости, о Боге, о братстве, то есть все о том же, о чем всегда говорили «русские мальчики». И ничего не меняет, что многие монпарнассцы были люди еврейского или полуеврейского происхождения (в большинстве христиане по убеждению, что делало их еще более одинокими, чем остальных участников Монпарнасса: для черносотенцев они продолжали оставаться «жидовскими мордами», а в еврейской буржуазной среде, где они могли бы найти опору и поддержку, на них косились, как на отщепенцев). Но если действительно миссия эмиграции в хранении «священных заветов», то на оторванном от всех исторических и национальных традиций, полуеврейском Монпарнаесе этой миссии служили, быть может, больше чем в стане проповедников разных «органических» и «почвенных» мировоззрений.
Все относившиеся к Монпарнассу с презрением — «вместо болтовни лучше бы занимались серьезной литературной работой» — пожмут плечами. Но в монпарнасских разговорах было больше верности русской идее, чем в программах, воодушевленных национально безличным фашизмом. Может быть, именно благодаря этой верности и было так мало удач, но зато не было предательства, и это важнее, чем занятие «серьезной литературной работой». (К тому же, мы видели, что и условия для такой работы были самые неподходящие).
Глава пятая
«Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а Вы хотите есть».
Воспоминания И. С. Тургенева о Белинском.
Большинство эмигрантских сыновей имело только самое смутное представление об истории общественного движения в России. Слышанные в детстве рассказы о бомбометателях, поразившие на каких-то старых фотографиях экстатические, с безумными глазами лица Балмашева и Каляева, куплеты студенческих песен, неизвестно как дошедшие до Монпарнасса; обрывки полузабытого предания о хождении в народ, о мученичестве, о героической беззаветной борьбе против несправедливости, о готовности всем жертвовать в этой борьбе: жизнью, здоровьем, свободой, счастьем. Все это волновало, почти как жития святых, таинственным приглашением, на которое что-то отвечает из глубины души каждого человека. И в то же время смущающее знание: это высокое жертвенное горение духа соединялось с понятиями о мире по «Бюхнеру и Молешотту», и эти люди принесли России только несчастье.