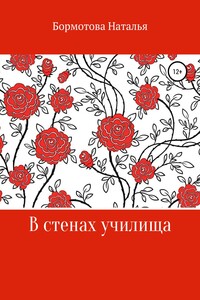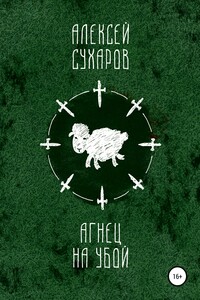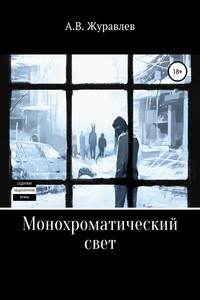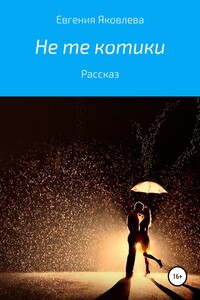Незамеченное поколение | страница 121
Между тем, Поплавский никогда не путешествовал, никогда не уезжал из Франции. Путешествие им предпринятое было другого рода — не в пространстве, а из пространства и социальной реальности во внутреннее измерение жизни. В такое путешествие отправляются ради безумной надежды открыть что-то, находящееся «по ту сторону» воздвигаемых здравым смыслом внешних пейзажей мира. Это мечтание предопределило всю судьбу младшей эмигрантской литературы, ее непризнанность, ее подлинность и ее неудачу. Ведь даже когда усилие интуиции (или медитации, или молитвы) вознаграждается открытием глубинной жизни, то как передать словами единственность и неповторимость каждого ее события? Бергсон говорит, что это почти так же невозможно, как посредством неподвижных точек невозможно изобразить движение. Все, что есть в наших чувствах и идеях по-настоящему нашего, несоизмеримо с готовыми кадрами языка — «Мысль изреченная есть ложь».
В рассказе Г. Кузнецовой «На вершине холма» старый, видимо, знаменитый, писатель говорит своему молодому собеседнику:
«— Ты ведь знаешь, что я писал и об этом… Я видел две трети мира и писал о них. Но теперь мне все чаще приходит на ум, что, в сущности самое благородное — молчание. Самые великие поэты, может быть, те, что молчат. Ты еще молод, самонадеян, тебе кажется, что можно все сказать, тебя съедает желание «выразить себя». Впоследствии ты поймешь, что всё равно ничего не выразишь. Перед тем неизбежно будешь мучиться в напрасных попытках передать кому-то всё, а потом смиришься, почувствуешь свою слабость и станешь стараться передать хоть частичку, хоть что-нибудь маленькое, ничтожное… И тогда, может быть, что-нибудь и пёредашь, потому что все мы, даже самые сильные из нас, могут передать только частицу, которая совсем ничтожна, даже пошла, в сравнении с тем, что чувствуешь. Да, может быть, самое достойное — молчание».
Люди, к литературе не причастные, обычно не замечают несоответствия между словами, которые они говорят, и тем, что они хотели этими словами сказать.
Во время войны мне, как всякому, часто приходилось слушать рассказы солдат о их боевых приключениях. Почти всегда я чувствовал при этом, что даже при искреннем намерении говорить правду, они, не отдавая себе в этом отчета, рассказывали не о том, что с ними было на самом деле, а только о том, что в пережитом ими было похожего на то, как рассказывали о себе другие солдаты. Происходило это не потому только, что индивидуальный, неповторимый аспект их собственных впечатлений не доходил до их внимания (а если и доходил, то они не могли найти нужных слов, чтобы его передать), но и потому, что им казалось, что чем больше в их рассказе будет таких же выражений и интонаций и таких же переходов от страшного к смешному, как у других рассказчиков, тем более правдоподобно и живо будет получаться и тем больший успех будет иметь их рассказ. И они не ошибались: их слушатели, действительно ожидали от них похожего на уже слышанное, и если бы они попытались рассказать по-другому, их не поняли бы и перестали бы слушать. Так же, как солдаты, рассказывают, впрочем, и многие писатели, и именно таким писателям обеспечен быстрый, правда, недолговременный успех. Но тот, кто захотел бы рассказать, что было с ним на самом деле, окажется перед почти неосуществимой задачей описания живой, неповторимой, единственной, непрестанно меняющейся сложности конкретного индивидуального сознания при помощи слов и понятий, принятых для символического обозначения только наиболее постоянного и общего, и, следовательно, безличного, что есть в человеческих чувствах и мыслях. Такому писателю придется производить насилие над словами, придавать им новый смысл, переставляя их в необычных сочетаниях и прибегая к своего рода каламбурам. Успех этой трудной и опасной «игры слов» никогда не обеспечен, и она требует такой же, как у канатного плясуна способности не поддаваться головокружению. «Поэта далеко заводит речь». Многие авторы, к словотворчеству особенно одаренные, в увлечении этой игрой, часто забывают о ее цели, и язык из средства выражения и общения превращается у них в нечто «самовитое», в особое прикладное орнаментальное искусство «плетения словес». В современной русской литературе не мало таких авторов, поэзия которых начинала развиваться не в направлении, указанном родившим ее чувством, а следуя стихийному потоку словесных ассоциаций. Так пловца относит течение и автомобилист, попав колесом в трамвайную колею, катит против своей воли вдоль по рельсам. Но даже, если избегнуты все опасности и найдены самые лучшие, самые верные слова, это всегда все-таки только «слова, слова, слова».