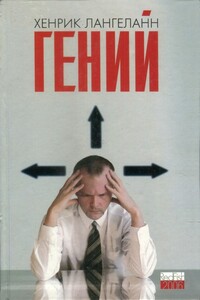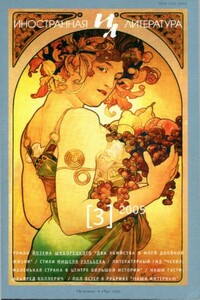Незамеченное поколение | страница 103
В 1930 г. начал выходить созданный по инициативе Н. Рейзини журнал «Числа». Редактировал «Числа» сначала совместно с И. В. де Манциарли, а потом единолично Николай Оцуп. Редакция «Чисел» была единственной в эмиграции, где молодых встречали как желанных участников. Оцуп сделал всё, чтобы журнал стал для них «своим». Произведения многих начинающих авторов были впервые напечатаны в «Числах». Но направление журнала определяли «петербургские поэты». Вокруг них и сложилась «парижская школа», на которую в последнее время было столько нападок (установка на лирический дневник, антиформализм, упадничество, пессимизм и т. д.). Правда, раздавались и голоса защитников. В предисловии к антологии русской поэзии «На западе» Ю. Иваск особенно выделил парижских поэтов: «формально между парижанами мало было общего. Но была и есть общая для них парижская атмосфера. И когда-нибудь историк русской поэзии и культуры отдельную главу своей книги назовет именем Парижа».
Короткие, но замечательные по глубине характеристики наиболее «парижских» из всех парижских поэтов Г. Адамовича, Г. Иванова, В. Поплавского, В. Смоленского, Л. Червинской и А. Штейгера, а также Д. Кнута и Ю. Софиева даны Г. П. Федотовым в статье, появившейся в «Ковчеге» в 1942 г. Г. П. Федотов, очень правильно приравняв «парижскую школу» к «школе Адамовича», отметил, что, несмотря на все значение воспитательной работы Ходасевича, старавшегося обучить молодежь классическому мастерству, молодежь шла за Адамовичем. Это вовсе не значило, конечно, что учась у Ходасевича-поэта, его не признавали как критика. Наоборот, с отдельными его взглядами на искусство, также как со взглядами и советами В. Вейдле, М. Цетлина и некоторых других эмигрантских критиков считались, может быть, даже больше, чем с советами Адамовича. Но за Адамовичем шли в самом главном. Это было очень определенное, хотя и трудно определимое представление о том, чем была и чем должна быть русская литература.
В статье «Несостоявшаяся прогулка» Адамович писал:
«Возвращаясь к литературе, я ничуть не настаиваю на том, что во всем, написанном «нами», есть след непосредственных встреч с Богом, смертью и другими великими мировыми представлениями. Подлинные встречи редки и трагичны: они наперечет. Но заражен воздух, отзвук чужих, огромных катастроф докатился до всех, и мелкая разменная монета этого рода — в кармане каждого здешнего романиста или поэта. Похоже на то, будто какие-то отважные и гениальные аэронавты оторвались от земли, и, постранствовав «в мирах иных», вернулись сюда, — правда только для того, чтобы умереть истерзанными, измученными, «в разливе синеющих крыл», как разбившийся о кавказские скалы блоко-врубелевский демон… Но перед смертью они успели кое-что рассказать. А людям становилось уже скучно и страшно, рассказы пришлись по сердцу, возникли бесчисленные их переложения. Ничего другого слушать больше никто не хотел».