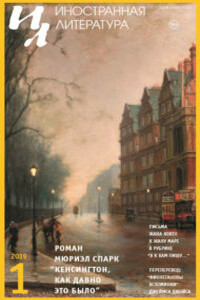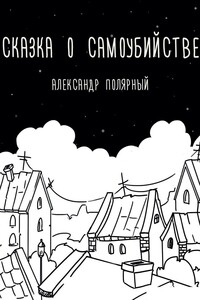Незамеченное поколение | страница 100
Молодые таких книг писать не могли — старого русского быта они не знали. Только от старших они слышали рассказы о прежней, вечной, воображаемой, разрушенной революцией родимой Трое, гибель которой они видели детьми. В этом отличие их эмигрантского опыта от опыта отцов. Они не участвовали в круговой поруке священных общеэмигрантских воспоминаний.
Борис Поплавский говорил:
«Новая эмигрантская литература, та, что сложилась в изгнании, честно сознается, что ничего иного не знает и что ее лучшие годы, годы наиболее интенсивного отзвука на окружающее, проходят здесь в Париже. Не Россия и не Франция, а Париж (или Прага, Ревель и т. д.) ее родина, с какой-то только отдаленной проекцией на русскую бесконечность».
Подобное заявление не могло быть по душе людям, только в сознании своей принадлежности к прежней великой России находившим опору для утверждения достоинства, смысла и подлинности своей жизни. Левые же эмигрантские «отцы» смотрели на молодых писателей и поэтов, как когда-то Золя на символистов: символисты-де хотели «противопоставить позитивистской работе целого столетия туманный лепет, вздорные стихи на двугривенный — произведения кучки трактирных завсегдатаев». Вечные шестидесятники узнавали в поэзии монпарнасских «огарочников» все отвратительные им черты декадентства: мистицизм, манерность, аморализм, антисоциальность, отсутствие здорового реализма и т. д. В эмигрантском обиходе молодые поэты и писатели пришлись не ко двору. Зато, быть может, им дано было участвовать в окружающей иностранной жизни? Но не было и этого.
«Среди великого народа, чрезвычайно деятельного и более занятого своими собственными делами, чем интересующегося чужими, я мог жить так же одиноко и уединенно, как в самой далекой пустыне», — писал Декарт о днях, проведенных им в Амстердаме. Эти слова каждый из «эмигрантских сыновей» мог бы повторить о себе в Париже. У них не было и тени способности к социальной мимикрии, развившейся у последующих поколений, когда на «Бульмише» начали появляться юные эмигрантские алкивиады, в невероятных галстуках, и говорившие как-то даже более по-французски, чем настоящие французы, — и их одиночество было больше одиночества «отцов»: у тех, мы видели, еще оставалась твердая почва под ногами: воспоминания, землячества, эмигрантская «общественность», а «сыновья» находились в неслыханной социальной пустоте, нигде, ни в каком обществе.
Князь Д. Святополк-Мирский писал, что Борис Поплавский было поэт скорее парижский, чем русский. На первый взгляд это определение кажется очень верным. В Поплавском явно чувствовалась какая-то родственная близость к парижским «poötes maudits». Его стихи, посвященные Рэмбо, написаны словно по личным воспоминаниям: