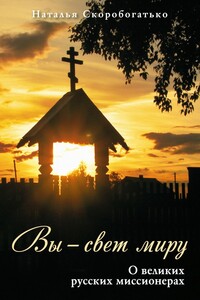Иисус Христос в восточном православном предании | страница 42
Эта мысль автора De sectis, которую заимствовали и использовали православные писатели VIII–IX вв. в полемике с иконоборчеством, свидетельствует о том, что сформулированная на Соборе 553 года христология никоим образом не исключает во Христе совершенного человеческого сознания; кроме того, она показывает, что понятие ипостаси, которая во Христе является Ипостасью Логоса, нельзя отождествлять с понятием сознания, которое является одним из природных феноменов.
Большинство византийских авторов, тем не менее, отказывались признать во Христе какое–либо неведение и объясняли такие отрывки, как Лк. 2:52, некой педагогической тактикой со стороны Христа. Возможно, это вытекало не столько из их христологии, сколько из концепции неведения, которое для греческого сознания автоматически ассоциировалось с грехом. Это особенно очевидно в богословии Евагрия. Леонтий Византийский, например, не был неохалкидонитом и, не признавая, как мы уже видели, ипостасного единства в Логосе, отказывался принять, что Христос мог быть «неведущим», поскольку Он был безгрешен.
Концепция ипостасного единства, предполагающая отсутствие во Христе человеческого «я», ибо единственным субъектом во Христе является Логос, не могла быть существенной причиной, приведшей византийских авторов к отрицанию неведения во Христе. Существовала также определенная философия гносиса, в которой ведение рассматривалось как признак естественного совершенства непадшей природы. Христос не мог не знать чего–либо, потому что Он был Новым Адамом. Чтобы утверждать подобное, не обязательно было быть неохалкидонитом.
Автор De Sectis не разделял подобных философских взглядов, и его позиция в византийской Церкви оставалась весьма устойчивой даже после 553 года, тем более, что св. Кирилл (который тоже не был сторонником Евагрия) признавал, что человечеству, соединенному со Словом, воспринявшим из послушания рабское состояние, было свойственно поклоняться Отцу и пребывать в неведении. Конечно, для св. Кирилла это было неведение, добровольно воспринятое в порядке икономии, но оно было вполне реальным, и автор De Sectis мог, таким образом, сослаться на авторитет великого александрийского учителя.
Характерно, что этот замечательный по своей ясности отрывок о неведении в De Sectis составляет часть главы, в которой автор опровергает так называемых афтартодокетов, утверждавших, что Тело Христа, рожденное от Девы Марии, являлось телом Нового Адама и, таким образом, не имело греха, а, следовательно, было нетленно (ajqartos). В действительности это проблема того же рода, что и вопрос о неведении Христа, причем проблема скорее антропологическая, нежели христологическая. Р.Драге ясно показал, что «учение о нетленности [Тела Христова] в равной степени хорошо согласуется и с формулой о двух природах, и с монофизитской христологией; это подтверждается тем, что оно имело последователей как среди сторонников Халкидонского Собора, так и среди монофизитов: яковитов и севириан». Да разве и сам император Юстиниан, всю свою жизнь исповедовавший халкидонскую веру, не поддался соблазну юлианова «афтартодокетизма»?