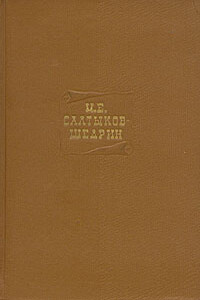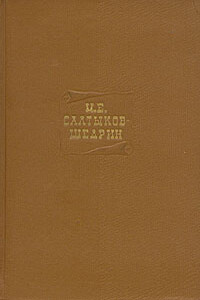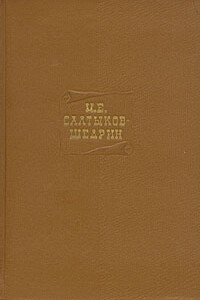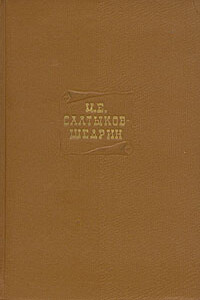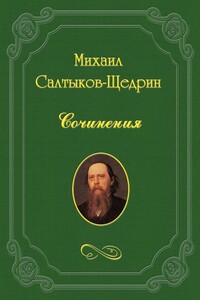Том 17. Пошехонская старина | страница 164
— Изрядно, — хвалит он Гришу, — только зачем тужишься и губы оттопыриваешь?
— Ну, папенька, он еще молоденек. И взыскать строго нельзя, — оправдывает матушка своего любимца. — Гриша! спой еще… как это… «на пиру», что ли… помнишь?
Гриша поет:
— Ладно, — поощряет дедушка, — выучишься — хорошо будешь петь. Вот я смолоду одного архиерейского певчего знал — так он эту же самую песню пел… ну, пел! Начнет тихо-тихо, точно за две версты, а потом шибче да шибче — и вдруг октавой как раскатится, так даже присядут все.
— Дарованье, значит, бог ему дал.
— Да, без дарованья в ихнем деле нельзя. Хошь старайся, хошь расстарайся, а коли нет дарованья — ничего не выйдет.
Репертуар домашних развлечений быстро исчерпывается. Матушка все нетерпеливее и нетерпеливее посматривает на часы, но они показывают только семь. До ужина остается еще добрых полтора часа.
— Папенька! в дурачки? — предлагает она.
— В дураки — изволь.
Дедушка садится играть с Гришей, который ласковее других и тверже знает матушкину инструкцию, как следует играть со стариком.
Наконец вожделенный час ужина настает. В залу является и отец, но он не ужинает вместе с другими, а пьет чай. Ужин представляет собою повторение обеда, начиная супом и кончая пирожным. Кушанье подается разогретое, подправленное; только дедушке к сторонке откладывается свежий кусок. Разговор ведется вяло; всем скучно, все устали, всем надоело. Даже мы, дети, чувствуем, что масса дневных пустяков начинает давить нас.
— Другие любят ужинать, — заговаривает отец, — а я так не могу.
— Мм… — отзывается дедушка и глядит на своего собеседника такими глазами, словно в первый раз его видит.
— Я говорю: иные любят ужинать… — хочет объяснить отец.
— Любят… — машинально повторяет за ним дедушка.
Бьет девять часов. Свершилось. Дедушкин день кончен.
Матушка, дождавшись, покуда старика кладут спать, и простившись с Настасьей, спешит в свою спальню. Там она наскоро раздевается и совсем разбитая бросается в постель. В сонной голове ее мелькает «миллион»; губы бессознательно лепечут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его…»
Чтобы дать читателю еще более ясное представление о дедушкиной семье, я считаю нелишним заглянуть на один из вечерков, на которые он, по зимам, созывал от времени до времени родных.
Обыкновенно дня за два Настасья объезжала родных и объявляла, что папенька Павел Борисыч тогда-то просит чаю откушать. Разумеется, об отказе не могло быть и речи. На зов являлись не только главы семей, но и подростки, и в назначенный день, около шести часов, у подъезда дома дедушки уже стояла порядочная вереница экипажей.