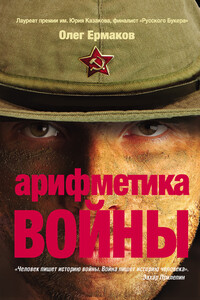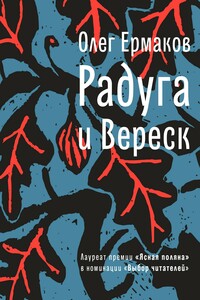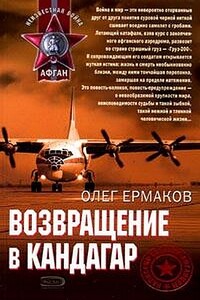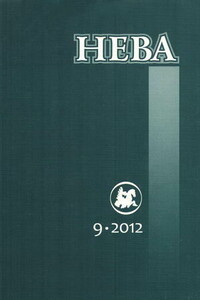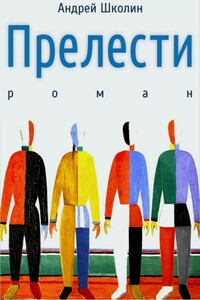Заброшенный сад. Сорок девять эпизодов одной весны | страница 14
Зацвела вишня, записываю это под нежную флейту Гайдна (увертюра «Lo Speziale»). Заметил это не сразу. Наливал воду в бочку, поднял глаза и увидел между забором и каркасом теплицы за навозной кучей весеннего ангела.
У бабы Вари после вечерних посиделок все спали, только хозяйка уже растапливала печь, кормила кошек, кур. А меня она разбудила. С вечера обещала показать кое-что. Я умылся возле печки, гудевшей огнем, бросавшей отсветы на стену, окно. А когда-то ее испугался нешуточно, печки, впервые войдя в избу, еле уговорили пройти мимо, объясняли, что зев почернел от огня, дрова туда кладут и т. д. Ну сейчас-то мне нравилось бросать в огонь щепки, перья. Поди сюда, сказала крупная баба Варя в платке, кофте, фартуке. Пока батька спит, выпей-ка вина, это царковное. И поднесла мне в рюмке густого красного вина. Я выпил впервые в жизни. Оказалось вкусно. Баба Варя снова взялась за свои дела с кастрюлями, чугунками. Я сидел на лавке, подманивал кошку, та сыто щурилась, не шла. Баба Варя выходила в сени, возвращалась. Вдруг торопливо шагнула к окошку, глянула и позвала меня. «Ну гляди, — сказала она, — сегодня Пасха и солнце грае». Над черными избами, голыми садами повисло солнце. Я посмотрел прямо на него. И увидел, как ободок чисто золотого блюдца вращается с невероятной скоростью. «Ну?» — спросила баба Варя, глядя сбоку на меня. «Вращается», — сказал я. «Грае», — сказала баба Варя удовлетворенно. Никогда больше я не видел такого солнца.
…Сейчас ее дом — развалина с пустыми окнами.
Глаз, зрение главенствует в мире света. Шпенглер удивляется: «Что-то во Вселенной, что никогда не будет доступно нашему пониманию, создает орган тела — глаз, и в глазу, вместе с ним, как ему полярное — свет». Тьма — синоним смерти, тайны. Невидимое — источник религиозности. Но Невидимое, сиречь Бог, не тьма, а иной свет, «тот свет». Между миром света человека и тем светом — ночь.
И оттуда приходит музыка, «единственный вид искусства, средства которого находятся вне пределов мира света».
Вот почему мы склонны считать музыку откровением.
И думаешь, может быть, и не так ее слушаем? Концертный зал весь должен погружаться в темноту, выводя зрителей на мост между мирами.
Но тут же вспоминается опыт Скрябина, и в свете рассуждений философа вдруг зримее проступает поистине прометеевская его суть: уж не намеревался ли композитор буквально похитить «тот свет», превратить его в световую партитуру? Ну если не в «Прометее», так в «Мистерии». Он добивался невозможного: превращения музыки в свет, музыки в слово, то есть в ясную мысль. Ведь слова, — снова прислушаемся к Шпенглеру, — состоят из света.