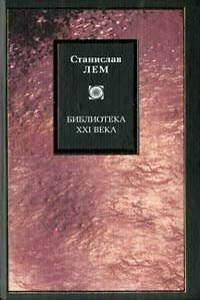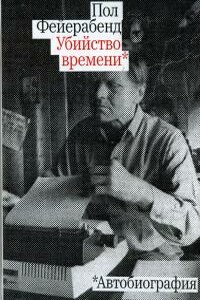Наука в свободном обществе | страница 65
Следовательно, релятивистское общество будет включать в себя базисную защитную структуру. Это приводит к следующему аргументу в пользу рационализма (или некоторой сходной защитной идеологии): не должна ли эта структура быть «обоснованной»? Не должна ли она быть ограждена от нежелательных влияний? Не должен ли тогда существовать некий «объективный» способ ее обсуждения и не приходим ли мы тем самым опять к рационализму, стоящему над конкретными традициями?
Для ответа на этот вопрос нам нужно понять лишь одно: защитные структуры берутся не с потолка, а вводятся в конкретных исторических условиях, и именно эти условия, а не абстрактные рассуждения о «справедливости» или «рациональности» детерминируют процесс их формирования. Люди, живущие в обществе, которое не предоставляет их традиции тех прав, которых она, по их мнению, заслуживает, будут стремиться к изменению такого общества. При этом они будут прибегать к наиболее эффективным средствам, имеющимся в их распоряжении. Они будут опираться на существующие законы, если это им помогает, они будут «рассуждать рационально», когда нужны рациональные аргументы, они будут участвовать в публичных дискуссиях (см. разъяснение 8 части первой, раздел 2, тезис 8), когда представители существующего положения не имеют определенной позиции, они поднимут восстание, если нет другого пути. Требовать, чтобы они ограничивались при этом только тем, что рационально приемлемо, значило бы рекомендовать им пытаться прошибить стену лбом. Кроме того, почему они должны беспокоиться насчет «объективности», если хотят, чтобы был услышан их «субъективный» голос?
Иное дело, когда племена, культуры, люди, не входящие в состав одного государства, сходятся в одном месте и им нужно жить совместно. Примером могут служить вавилоняне, египтяне, греки, мидяне, хетты и многие другие народы, чьи интересы столкнулись в Малой Азии. Они учились друг у друга и создали «Первый интернационал» в 1600—1200 гг. до н.э. Терпимость различных традиций и вероучений в этот период далеко превосходила терпимость христианства по отношению к альтернативным формам жизни. Яса Чингисхана, провозглашавшая одинаковые права для всех религий, показывает нам, что история не всегда связана с прогрессом и что «современное мышление» может далеко отставать от мышления «дикарей», проявлявших разумность, практичность и терпимость.