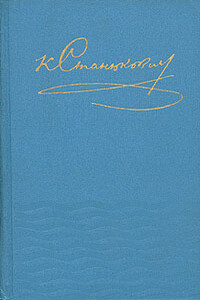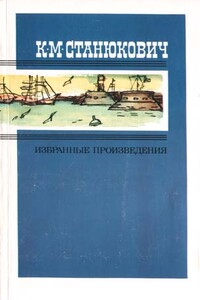Том 4. Повести и рассказы | страница 11
— Ну что, как, где мы, Аркадий Вадимыч? — спрашивают его со всех сторон.
Он говорит широту и долготу, обращаясь к старшему офицеру.
— А миль сколько?
— Двести шестьдесят. Отличное плавание…
— А скоро ли придем в Батавию? — задают вопросы мичмана.
— Потерпите, господа, потерпите… Скоро муссон получим, а там уж недолго!. — торопливо и любезно отвечает Аркадий Вадимыч и бежит к капитану, оправляя пред входом к нему в каюту сюртучок и принимая деловой серьезный вид.
— А ведь подлиза! — шепчет один мичман угрюмому долговязому гардемарину, только что отдолбившему сто английских слов.
— Не без того… вроде Чебыкина…
— Он нынче опять своего вестового Ворсуньку[3] отдул, Чебыкин-то!
— Скотина! Дантист! Он только клипер позорит! — негодует угрюмый гардемарин, и его бледно-зеленое лицо вспыхивает краской.
Чебыкин чувствует, что говорят про него, но делает вид, что не замечает, и дает себе слово сегодня же «разнести» угрюмого гардемарина, который у него под вахтой. Он его не любил, а теперь ненавидит.
Все садятся за стол. На одном конце стола, «на юте», старший офицер, по бокам его доктор и первый лейтенант, далее старший штурман, артиллерист, батюшка, механик, вахтенные начальники, а на другом конце, «на баке», мичмана и гардемарины.
Вестовые разносят тарелки с супом, пока за столом каждый пьет по рюмке водки. Качка хоть и порядочная, но можно есть, не держа тарелок в руках, и крепкие графины с красным вином устойчиво стоят на столе. Все едят в молчании и словно бы чем-то недовольны. Два Аякса — два юнца гардемарина, еще недавно закадычные друзья, сидевшие всегда рядом, теперь сидят врозь и стараются не встречаться взглядами. Они на днях поссорились из-за пустяков и не говорят. Каждый считает бывшего друга беспримерным эгоистом, недостойным бывшей дружбы, но все-таки никому не жалуется, считая жалобы недостойным себя делом. Курчавый круглолицый мичман Сережкин, веселый малый, всегда жизнерадостный, несосветимый враль и болтун, и тот присмирел, чувствуя, что его невозможное вранье не будет, как прежде, встречено веселым хохотом. Однако он не воздерживается и, окончивши суп, громко обращается к соседу:
— Это что наш переход… пустяки… А вот мне дядя рассказывал… про свой переход… вот так переход!.. Сто шестьдесят пять дней шел, никуда не заходя… Ей-богу… Так половину команды пришлось за борт выбросить… Все от цинги…
Никто даже не улыбается, и Сережкин смолкает, сконфуженный не своим враньем, а общим невниманием.