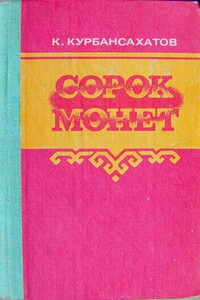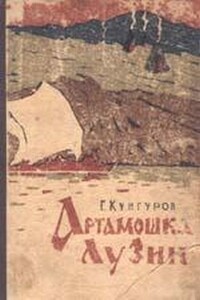Блаженные шуты | страница 82
— Она пыталась мне что-то рассказать, — настойчиво твердила она. — Ты помешала ей. Что такое она могла…
— Ради Бога, об этом потом!
Я почти забыла про него: Лемерль. Рядом в узком луче света он театрально застыл с припавшей к нему Альфонсиной, ловившей ртом воздух, точно рыба, выброшенная на берег.
— Надо немедленно отвести несчастную в лечебницу. Полагаю, вы распорядитесь снять с нее епитимью? — продолжал он. Мать Изабелла не отвечала, по-прежнему глядя на меня. — Или хотя бы предпочтете получить ответ на ваш вопрос в иное удобное для вас время?
Изабелла слегка покраснела.
— Случившееся требует внимательного и тщательного расследования, — сказала она.
— Несомненно. Но только когда сестра Альфонсина будет в состоянии говорить.
— А сестра Огюст?
— Возможно, завтра?
— Но, отец мой…
— Завтра к собранию капитула уже кое-что прояснится. Уверен, вы согласитесь, что излишняя поспешность здесь неуместна.
Последовала долгая пауза. Наконец Мать Изабелла сказала:
— Быть по сему. Подождем до завтра. До капитула.
И тут я повернулась в его сторону, и вновь поймала на себе его взгляд, ясный, будоражащий. В голове стремительно пронеслось: вдруг ему известно, что произошло в крипте, не он ли сам все это подстроил, чтобы я снова оказалась в его власти… Теперь от него можно всего ожидать. Он вероломен. И слишком хорошо меня знает.
Что ж, подстроил он это, нет ли, это был повод преподать мне урок. Лемерль указал мне, что без его участия я беззащитна, что положение мое весьма ненадежно, словно я стою на истертом канате. Хочу я того или нет, без его помощи мне не обойтись. А Черный Дрозд, это я знала по прошлому, никогда задешево свои услуги не продает.
7
♠
21 июля, 1610
— Помилуй меня, святой отец, ибо я согрешила.
Наконец-то. Явилась на исповедь. О, как приятно держать ее покорную в своих руках, мою дикарку, мою хищную птицу. Я чувствую ее взгляд через решетку исповедальни, и на трепетное мгновение ощущаю и себя пойманным в клетку. Ощущение неповторимо. Слышу ее учащенное дыхание, вижу, каким громадным усилием воли она заставляет свой голос звучать ровно, произносить необходимые слова. Свет сверху из окна тускло просачивается в исповедальню, роняя на ее лицо арлекинский узор из розовых и черных квадратов.
— Неужто моя Элэ меняет свои крылья на белоснежные райские?
Я не привык к таким откровениям, к повседневным признаниям на исповеди. Мной овладевает нетерпение — отчего памятью я устремляюсь по уже заросшим тропам, которые нужно выкинуть из памяти, забыть. Возможно, она это видит; ее молчание — молчание признания, а не покаяния. И, чувствуя это, я произношу неосторожные слова, которые вырываются невольно: