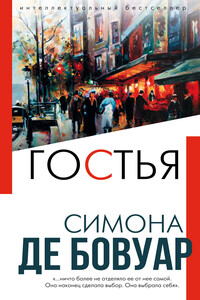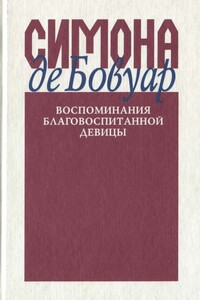Сила обстоятельств: Мемуары | страница 4
То, что он побывал в плену, наложило глубокий отпечаток на него: это научило его солидарности; отнюдь не чувствуя себя ущемленным, он с радостью принимал участие в общинной жизни. Он ненавидел привилегии, его гордость требовала, чтобы он лишь собственными силами завоевывал свое место на земле: затерянный в толпе, некий номер среди прочих, он испытал огромное удовлетворение, начав с нуля и добившись всего. Он завоевал дружеское расположение, нашел отклик своим идеям, организовал акции, мобилизовал весь лагерь, чтобы поставить на Рождество встреченную аплодисментами антигерманскую пьесу «Ба-риона». Суровая требовательность и тепло товарищества разрешили противоречия его антигуманизма: по сути, он восставал против буржуазного гуманизма, который чтит в человеке природу; но если человека предстоит сформировать — какая другая задача могла бы увлечь его больше! Отныне, вместо того чтобы противопоставлять индивидуализм и общность, Сартр уже не представляет их себе иначе, чем слитые воедино. Он станет осуществлять свою свободу, воспринимая возникшую ситуацию не субъективно, а изменяя ее объективно, создавая будущее, соответствующее его чаяниям; и таким будущим стал — во имя тех самых демократических принципов, коим Сартр был привержен, — социализм, от которого его отталкивала лишь боязнь потеряться там, теперь же он видел в нем и единственный шанс человечества, и условие для собственной реализации.
Отношения Сартра с коммунистами — участниками Сопротивления были самыми дружескими. После ухода немцев он собирался поддерживать это согласие. Правые идеологи объясняли его союз с компартией с помощью псевдопсихоанализа; они приписывали ему комплексы самоуничижения или неполноценности, озлобленность, инфантилизм, ностальгию по церкви. Какие глупости! За компартией шли массы, социализм мог победить лишь с ее помощью; с другой стороны, теперь Сартр знал, что его взаимоотношения с пролетариатом радикальным образом ставили под вопрос его суть. Он всегда считал пролетариат универсальным классом, однако, пока он надеялся достичь абсолюта с помощью литературного творчества, его сущность имела для других лишь второстепенное значение. И вот в силу историчности он вдруг обнаружил свою зависимость, и нет тебе ни вечности, ни абсолюта, а универсальность, на которую он, как буржуазный интеллектуал, уповал, ему могли даровать лишь люди, в которых она воплощалась на земле. Уже тогда он задумывался о том, что выразил позже: воистину верна лишь точка зрения на происходящее самого обездоленного; палач может не ведать, что он творит, а жертва неопровержимым образом ощущает свое страдание, смерть; истина угнетения — сам угнетенный. Только глазами эксплуатируемых Сартр сможет постичь, кто он есть, и если они отвергнут его, то он окажется запертым в своей мелкобуржуазной обособленности.